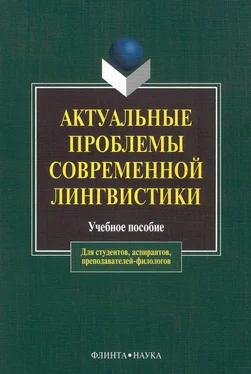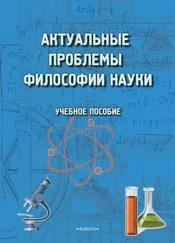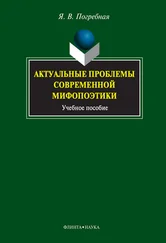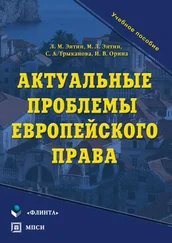Фонетическое слово и редукция
В этом разделе мы представим дополнительные экспериментальные данные, относящиеся к роли ФС в процессах восприятия речи.
ФС для русского языка неразрывно связано с ударением. С точки зрения восприятия речи это, как многократно упоминалось, означает, что, опознавая ударные слоги в тексте, носитель языка членит текст на фонетические слова.
Членение может осуществляться с точностью до числа ФС и с точностью до фиксирования межсловных единиц, где под словами, опять-таки, должны пониматься слова фонетические. Установление межсловных границ было бы возможным, если бы границы акцентного контура были перцептивно опознаваемыми. Теория пограничных сигналов Н.С. Трубецкого по существу предполагает такой вариант: по крайней мере со времен А.А. Потебни известно, что русское слово характеризуется разными степенями редукции гласного (слога), которые определяются позицией относительно ударного слога в пределах слова, и, соответственно, зная тип редукции – умея его определять в тексте, – мы получаем информацию о «местоположении» начала / конца слова в речевой цепи.
Однако в действительности носителю языка едва ли доступны подобные операции. Даже если считать, что традиционные представления о «дуге редукции» в пределах слова верны, из этого еще не следует, что соответствующая информация принадлежит к перцептивно полезным признакам, используемым в процессе восприятия речи.
Об этом говорят и эмпирические данные наблюдений над восприятием реальной речи. Так, лишь семантическая неинтерпретируемость мешает воспринимать строку известной песни сказал кочегар кочегару как сказалка чигарка чигару или сказалка чигар качигару. Такие перераспределения границ были бы очевидным образом невозможны, если бы информация о типе редукции реально использовалась. Вполне естественно, что подобные ошибки в изобилии дает ситуация восприятия речи на фоне шума, когда затруднен доступ к информации о сегментной структуре слова и, следовательно, о семантических характеристиках высказывания. Примерами могут служить замены наподобие зеленый крокодил → наверно приходил, черешни поспели → лежи в постели, живу воспоминаниями → желает понимания и т.д.
Иначе говоря, информация о редукции, скорее всего, не используется для определения границ фонетического слова.
Те же эксперименты по восприятию речи в условиях маскировки дают, однако, и замены принципиально иного типа, которые ставят под сомнение незыблемость самого по себе положения о том, что число ударений везде совпадает с числом ФС, например, ловля птиц → коллектив <...>. Из внеэкспериментальных свидетельств, которые также колеблют принятое положение о взаимооднозначном соответствии между ударениями и ФС, можно указать на каламбуры наподобие знаменитых минаевских Муж, побледнев как штукатурка, воскликнул – это штука турка! или Даже к финским скалам бурым обращаюсь с каламбуром; писать стихи – моя стихия, и легко пишу стихи я.
Если бы штука турка и штукатурка уверенно различались как, соответственно, два (фонетических) слова vs одно (фонетическое) слово за счет наличия двух vs одного ударения, то эффект каламбура, очевидно, не возникал бы.
Наконец, можно добавить, что неочевидно просодическое (акцентное) противопоставление пар наподобие на диване (одно ФС) и дядя Ваня (два ФС).
По поводу последнего из упомянутых типов один из авторов настоящей статьи пишет: «Очевидно, не формулируемое явным образом рассуждение, которое ведет к традиционному разграничению сочетаний типа дядя Ваня и на диване, должно выглядеть следующим образом: при полном сохранении просодических характеристик (при сохранении акцентного контура) вместо дядя Ваня можно ожидать, например, сочетание тетя Таня. Но в этом сочетании в слове тетя имеем фонему /о/, а /о/ не может быть безударным (если отвлечься от малочисленных исключений). Следовательно, само по себе наличие /о/... свидетельствует о двуударности – а тем самым о наличии двух ФС в сочетании тетя Таня и, по аналогии, в дядя Ваня (в отличие от на диване), что и требовалось доказать» [Касевич 2001].
Принятие приведенного рассуждения предполагает учет теснейшей взаимосвязи просодических (акцентная структура слова) и сегментных характеристик слова (редукции или даже чередования фонем). В связи с этим можно вспомнить, что в литературе существуют концепции, согласно которым выделяются не только ударные / безударные слоги, но и сильные / слабые, или тяжелые / легкие – нередуцированные и редуцированные соответственно. Если в пределах одного языка нет попарного совпадения членов указанных противопоставлений, т.е. безударный слог не всегда редуцированный, а ударный – не всегда сильный, то возникает возможность вычленения ФС по двум относительно независимым критериям: наличию / отсутствию ударения и наличию / отсутствию (и типу) редукции. В сущности, к такому подходу близка не получившая дальнейшего развития позиция Э. Пальгрэма, который предлагал различать нексусные и курсусные единицы [Pulgram 1970]. Теоретически реальным выглядит предположение, когда ФС будет определяться одновременно по набору признаков, как акцентных, так и «редукционных».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу