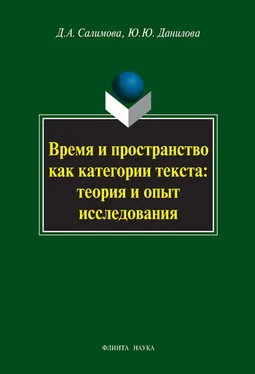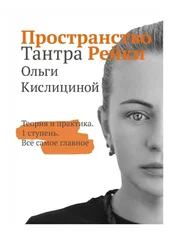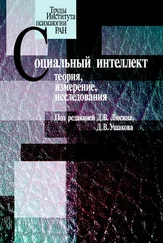5. На уровне структурной организации поэтических текстов пространственная модель З.Н. Гиппиус репрезентируется большей частью посредством вертикального контекста (несомненно обусловленного поэтикой двоемирия), определяющего самопозиционирование Я-субъекта (центральное, промежуточное положение), хотя горизонтальный, во многом переосмысленный, тоже имеет место быть (мотив кругового сужающегося пространства); в целом структура многих поэтических гиппиусовских текстов представляет собой концентрические круги, представленные преимущественно кольцевой, рамочной композицией, системой заглавий, повторов и «авторскими циклами».
6. Гиппиусовская модель художественного пространства представляет собой разноуровневую структуру, актуализация которой осуществляется практически на всех языковых ярусах в полной мере: преимущественно репрезентируется посредством лексических средств языка и с учетом специфики структурно-композиционной организации текстов.
Время и пространство как основные формы существования материи находят самые разные обрамления и виды отражения в текстовом поле поэтов, особенно значимы и концептуально эксплицированы эти категории в творчестве поэтов-философов, мыслящих и чувствующих неординарно. К таковым относятся Марина Цветаева и Зинаида Гиппиус. Многомерность временных и пространственных планов, эксплицированных в стихотворениях этих двух поэтов, несомненно связана со сложностью и многослойностью самого времени-абсолюта и пространства-мира, в которых они оказались. Во-первых, они родились в одной стране, в царской России, довелось им жить в новой, послереволюционной России, в СССР, в ведущих капиталистических государствах Европы. Но, к сожалению, как это обычно бывало в России, Родина оказалась неблагосклонной к любящим ее детям: одна так и не вернулась и нашла вечный приют во Франции, другая – вернулась, но погибла в нищите. Так, и Марина Цветаева, и Зинаида Гиппиус часто оказывались на перепутье, на пересечении времен и макро-и микропространств. Особенно «космически» мыслила Цветаева: она чувствовала ответственность за все те страны (за все пространства), в которых волею судьбы оказывалась. «День и ночь, день и ночь думаю о Чехии, живу с ней, с ней и ею, чувствую внутри нее: ее лесов и сердец. Вся Чехия сейчас одно огромное человеческое сердце, бьющееся только одним: тем же, чем и мое… Глубочайшее чувство опозоренности за Францию, но это не Франция: вижу и слышу на улицах и площадях: вся настоящая Франция – и толпы и лбы – за Чехию и против себя.
До последней минуты и в самую последнюю верю – и буду верить – в Россию: в верность ее руки» [цит. по: Труйя 2004: 383].
Во-вторых, оба поэта были личностями с чрезвычайно сложным, противоречивым характером, что не могло отразиться на их творческом почерке: часто одни и те же пространственные или временные образы (дом, Москву, ночь) поэты видели совершенно в разных тонах, многомерных и не подлежащих логическому объяснению.
Что же сближает этих двух очень разных, на первый взгляд, (в первую очередь в плане значимости в истории русской поэзии) авторов?
1. Несомненно, это само реальное время и пространство. Цветаева и Гиппиус жили в одно время, создавали свои произведения в один период Серебряного века. Жили в одном и том же государстве, из которого часто выезжали, жили подолгу в европейских странах: Чехии, Германии, Франции. Эти два поэта видели один и тот же мир, резко меняющийся, такой разный в одно и то же время, которое было всегда несколько «не их».
2. Оба поэта – женщины, причем обе утверждали, что они «поэты», а не «поэтессы». Это сильные личности, сверхсамостоятельные, самодостаточные, обособленные и оторванные от окружающих их людей, всегда осознававшие, что они стоят намного выше, чем все остальные; эгоцентризм, взгляд на время и пространство «свысока», «оттуда» – характеризовали и Марину Цветаеву, и Зинаиду Гиппиус. Поэзия их, глубокая, философская, метаинди-видулизированная, – своего рода протест против традиционных тем женской поэзии (христианская и романтическая любовь, семейное счастье, материнство).
3. Эти два автора, для которых характерны рефлексия, самоуединение, были средоточием своих миров; абсолютное бытие они видели и понимали как бытие вне времени и пространства. С этим связано использование ими «вечных» лексем, включение их в единую лексическую систему языковых элементов, принадлежащих разным народам и разным эпохам. Демонизирование своей судьбы, осознание своего предначертания, подверженность наитию наложили отпечаток именно на специфике построения временно-пространственной модели.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу