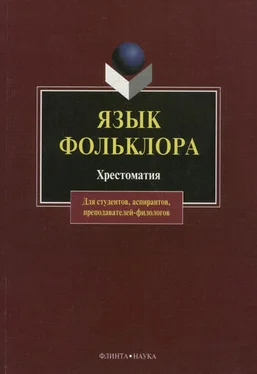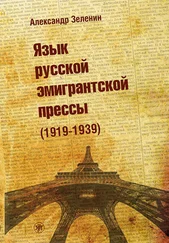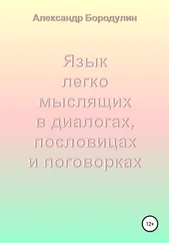Преобладание ритмическо-мелодического начала в составе древнего синкретизма, уделяя тексту лишь служебную роль, указывает на такую стадию развития языка, когда он ещё не владел всеми своими средствами, и эмоциональный элемент в нём был сильнее содержательного, требующего для своего выражения развитого сколько-нибудь синтаксиса, что предполагает в свою очередь большую сложность духовных и материальных интересов. Когда эта эволюция совершится, восклицание и незначащая фраза, повторяющаяся без разбора и понимания, как опора напева, обратятся в нечто более цельное, в действительный текст, эмбрион поэтического; новые синкретические формы вырастут из среды старых, некоторое время уживаясь с ними, либо их устраняя. Содержание станет разнообразнее в соответствии с дифференциацией бытовых отношений, а когда у народа явится и раздельная память прошлого, создастся и поэтическое предание, чередуясь с старой импровизацией; песня станет переходить из рода в род, от одной народности к другой, не только как мелодия, но и как сам по себе интересующий текст [206].
Рядом с общими местами содержания, отвечая им, развилось такое же явление в области стиля: он стал типическим, тем, что я выше назвал эпическим схематизмом. У певцов свой песенный Домострой, отражение, иногда застывшее, бытового: герои определенным образом снаряжаются к бою, в путь, вызывают друг друга, столуют; один, как другой; всё это выражается определенными формулами, повторяющимися всякий раз, когда того требует дело. Складывается прочная поэтика, подбор эпитетов, стилистических мотивов, слов и эпитетов: готовая палитра для художника. При данных условиях продукция певца напоминает приёмы commedia dell'arte дан коротенький libretto, знакомы типы Арлекино, Коломбины, Панталоне; актёрам представлен определенный всем этим диалог и свобода lazzi. Певец знает песни, характерные черты действующих лиц, всё остальное доскажет его поэтика; тот же или другой певец пропоёт ту же песню в другой раз иначе, разница будет в подборе некоторых общих мест, в забвении того или другого эпизода libretto, но существенное повторится. Устойчивость такого стиля – в певческом, я бы сказал, школьном предании. Когда на финских свадьбах и других народных празднествах раздаются руны, тот, кто в таких случаях услышит незнакомую песню, старается её запомнить, но, повторяя её перед другими, скорее держится её содержания, чем буквальной передачи: то, чего он не запомнит слово в слово, он споет своими словами, и часто даже лучше, чем сам слышал. За него говорит сложившаяся стилистика [268].
…Что мы зовём народною лирическою песней, не что иное, как разнообразное сочетание тех же простейших мотивов, стихов или серий стихов: вы встретите их там и здесь, как общее место; порой они накопляются, видимо, бесцельно, подсказанные мелодией и темпом, как во французских motets, порой развиваются содержательно, один мотив вызывает другой, сродный, как рифма вызывает рифму. Всё это бывает связано незатейливо, диалогом, либо каким-нибудь положением: кто-то ждет, задумался, плачется, зовёт и т. п., и стилистические формулы служат к анализу психологического содержания: формулы печали, расставания, привета, как в эпической песне есть формулы боя, столованья и т. д.; тот же стилистический Домострой [272].
II
От певца к поэту. Выделение понятия поэзии
Слова переживали, возникали и обновлялись на путях развития, и значение перерастало этимологию [328].
Из таких формул состоит весь наш поэтический язык; в этом интерес его изучения [343].
III
Язык поэзии и язык прозы
Язык поэзии, подновляя графический элемент слова, возвращает его, в известных границах, к той работе, которую когда-то проделал язык, образно усваивая явления внешнего мира и приходя к обобщениям путём реальных сопоставлений [355].
На степени, видимо, более отдаленной от требований чисто физиологического порядка, стоит наша любовь к параллельно построенным формулам, части которых объединены одинаковым падением ударения, иногда поддержаны созвучием <���…>, рифмой или аллитерацией и содержательно-психологическим параллелизмом членов предложения [356].
Ударение выдвигало известные слова над другими, стоящими в интервалах, и если такие слова представляли ещё и содержательное соответствие, то, что я разобрал под названием «психологического параллелизма», к риторической связи присоединялась и другая.
Читать дальше