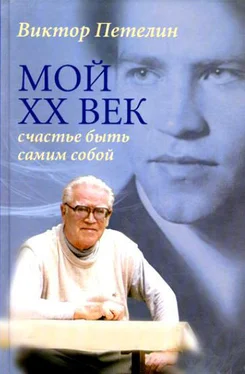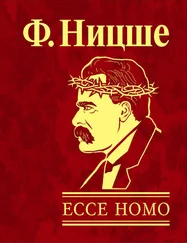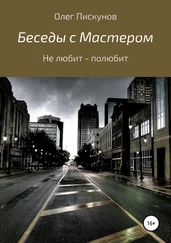Спасибо Вам за готовность оказать мне приют. Наверное, это мне понадобится.
На всякий случай, а также для совета, прямой критики, посылаю Вам продолжение «Момича». Сейчас я сижу в нем в полосе коммуны. Это нужно сделать грустно-впечатляюще, правдиво-точно и тепло.
Конечно, если бы не необходимость отрываться от работы на побочные поделки для хлеба насущного, то книга продвигалась бы успешнее. Я как-то дерзнул своротить сценарий. И, знаете, своротил. И даже напечатал его во втором номере «Невы» за тот год (правда, там его сильно испортили), но никакая даже самая захудалая киностудия не откликнулась на мой затаенно-вожделенный призыв. Видно, на эту кухню я постучался не в те двери: кажется, нужно было с «черного хода», а я по этим путям не ходок.
У нас тут сушь, жара. Появились уже кусачие августовские мухи. Конец лету. Вы были уже в отпуске? Куда Вы ездите? Валяйте в Литву, в Палангу. Говорят, что здесь хорошо. Я ни разу там не был. Я даже Черного моря не видел еще, вот ведь незадача.
Будьте здоровы и благополучны. Крепко жму руку. Ваш К. Воробьев».
И в пакете – еще три вырезки из «Советской Литвы» за 24 – 26 июля 1964 года, отрывок из романа под названием «Первые радости».
И снова вроде бы о простом и давно известном говорится на страницах «Советской Литвы»... Ну что тут особого, когда тетка Егориха рассказывает о том, как вызывали ее в сельсовет и «назначили делегаткой от всей Камышинки», как она два дня заседала в Лугани, а потом, возвращаясь в повозке Момича, «жарким шепотом» сообщила: «...Скоро мы с тобой в коммуну пойдем жить... в барский дом, что в Саломыковке... Ох, Сань, если б ты знал... И все, Сань, под духовые трубы, все под музыку – и ложиться, и вставать, и завтракать, и обедать...»
Все так казалось заманчиво, а как только стали собираться, так и «смутно» стало на сердце у Егорихи. А главное – до слез обидно, что в коммуну вместе с ними едут побирушка Дунечка и ее сын – конокрад Зюзя, совсем недавно спасенный Момичем от ярости рассвирепевшей толпы односельчан. Грустно и тоскливо было читать строки, которыми описывает рассказчик свое знакомство с коммуной: такая же бедность и убогость, какие были и в их доме: «Нас было девятнадцать человек – одиннадцать мужчин и я, шестеро баб и тетка... Председатель коммуны Лесняк в счет не входил. Он жил отдельно, на втором этаже... По отлогим каменным ступенькам коммуны мы с теткой втащили сундук в сумрачно-прохладный зал, разгороженный двумя рядами витых мраморных колонн. За ними, по правую руку, под окнами, заколоченными фанерой и жестью, впрорядь низенькие железные койки. На них сидели и лежали люди – за левым рядом колонн мужчины, а вправо женщины...»
Казалось, что все будет «хорошо и сладко» в коммуне...
Таковы были первые радости тетки Егорихи и Саньки, совсем чужого ей, если помнить только о кровных узах, но такого близкого и любимого, родного, если говорить о душевной близости.
...А вскорости после этого письма в Москву приехал Константин Воробьев, и мы долго обедали в шашлычной, неподалеку от издательства «Советский писатель», совсем рядышком с Литинститутом... И вот наконец «Друг мой Момич» вышел в свет – роман, о котором мы говорили в те далекие дни так много и обстоятельно...
С предельной остротой и достоверностью К. Воробьев рассказывает о том, что увидели Санька и тетка Егориха, сорокалетняя крестьянка, которой так и не удалось вырваться из когтей бедности, и как только поманили ее лучезарной жизнью, так она тут же согласилась. Нет, бедность не мучает ее, она легко относится к ударам судьбы – муж-то ее помешанный... Надо ж и его как-то содержать. Она легко поверила, что в коммуне им будет легче, душевнее. Но то, что она увидела в коммуне, ужаснуло ее. Все та же бедность, убогость, да еще в условиях, когда не распоряжаешься своей судьбой, полностью зависишь от других, от их приказов, характеров, от их неумения работать: «Коммунары окучивали картошку. На саломыковских огородах она давно цвела, а эта не собиралась даже. В глинистом месте, на берегу ручья потому что росла, а тут пырея полно. Да и навоза в коммуне нету. Кто ж его у нас наделает!»
Нет, уж лучше бедность на свободе, чем все та же бедность в условиях чудовищного подавления личности в так называемой коммуне рабов. И тетка сразу же стала думать о спасении. Впервые она почувствовала, что значит быть свободной, быть личностью. Пусть голод и холод терзают ее тело, но она свободна и независима в своих желаниях и стремлениях, ее не подавляет душевный мир коммуны.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу