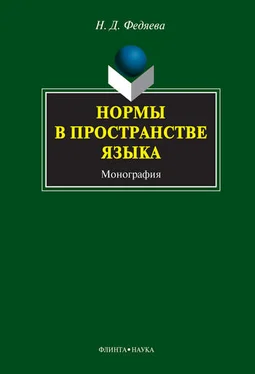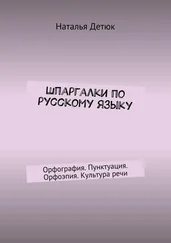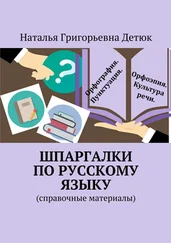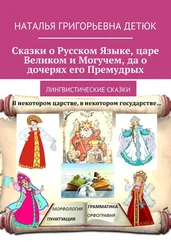– А ты, Леночка, ей-богу, замечательно выглядишь сегодня. И капот тебе идет, клянусь честью, – заискивающе говорил Мышлаевский, бросая легкие, быстрые взоры в зеркальные недра буфета, – Карась, глянь, какой капот. Совершенно зеленый. Нет, до чего хороша.
– Очень красива Елена Васильевна, – серьезно и искренне ответил Карась.
– Это электрик, – пояснила Елена, – да ты, Витенька, говори сразу – в чем дело?
В пьесе ситуация усугубляется: имеет место двойная ошибка, причем неправильный выбор цветообозначения показан более прямолинейно.
Мышлаевский. Ты замечательно выглядишь сегодня. Ей-Богу. И капотэтот идет тебе, клянусь честью. Господа, гляньте, какой капот, совершенно зеленый!
Елена. Это платье, Витенька, и не зеленое, а серое.
В обоих случаях описана следующая ситуация.
– Первый говорящий выбрал некие номинативные единицы для обозначения внеязыкового объекта.
– Выбранные единицы не соответствуют объекту и/или нормативным представлениям об объекте второго говорящего.
– Второй говорящий предлагает адекватную, на его взгляд, лексическую замену.
Таким образом, оценка приводит к необходимости нового выбора, выбор осуществляется с опорой на норму и т. д.
Итак, когнитивные языковые нормы:
унифицируя , задают совокупность значений, входящих в одну и ту же категорию, их иерархию;
стабилизируя , поддерживают инвариантность категории;
регулируя , рекомендуют выбор той номинативной единицы, которая соответствует нормативным представлениям об объекте;
маркируя одну из единиц как адекватную нормативным представлениям, предоставляют участникам общения возможность оценить успешность выбора.
Как и предполагалось, комплекс функций, выполняемых когнитивными языковыми нормами, тождествен комплексу функций норм социальных, что подтверждает правомерность присвоения феноменам одного имени – норма.
Помимо функций, значимым элементом концепции нормы является вопрос о соотношение нормы и не-нормы, аномалии. На примере социальных норм отчетливо можно увидеть неразрывную связь этих явлений, обусловливающую их взаимообратимость, оценочный характер противопоставления, градуированность пространства нормы и не-нормы. Если наше предположение о близости социальных и когнитивных норм верно, то в сфере действия когнитивных норм должны быть обнаружены те же закономерности.
Взаимообратимость когнитивной нормы и не-нормы и градуированность пространства между ними связана с особенностями устройства наивных категорий, для которых, как отмечалось выше, характерны диффузность границ (т. е. возможность перехода между категориями) и различная степень близости к ядру. Иными словами, в категорию входят объекты, которые в большей или меньшей степени соответствуют нормативным представлениям об эталонном члене категории. Следствием же градуированности когнитивных норм является тот диапазон возможностей, который предоставляется говорящему при выборе номинативной единицы. Приведем несколько высказываний, в которых сопоставление номинативных единиц демонстрирует переходы между категориями и/или внутри категорий: Опять это был старикан лет под сто, сухой и тощий, как его бамбуковая удочка, только не желтый с лица, а скорее коричневый или даже, я бы сказал, почти черный (А. и. Б. Стругацкие, ruscorpora); Поезд мчался к рекеили, может быть, узкому ответвлению озера, над которым был перекинут странный мост (В. Пелевин, ruscorpora); Многие из нас мечтали стать космонавтами, водителями автобусов или даже милиционерами. Но не у всех сбылись даже эти нехитрые мечты. Потому что это были мечты, а у юного Николы – видЕние. А скорее всего – вИдение (К. Глинка, ruscorpora): каждое из со– или противопоставляемых слов допустимо, что является следствием диффузности границ между категориями, при этом одно из слов подходит в большей степени, так как более адекватно отражает действительность. Градуируемость самих норм сказывается и на градуируемости оценок, не случайно в русском языке к прилагательному нормальный могут примыкать самые разнообразные наречия меры и степени: (не) вполне, совершенно, абсолютно, (не) совсем, чересчур, достаточно . Говорящий может оценить выбранную номинативную единицу как наиболее уместную, подходящую в большей или меньшей степени и вовсе не удачную с точки зрения соответствия нормативным представлениям об обозначаемом объекте. Приведем примеры такой речевой рефлексии, позволяющей выбрать наилучшее словесное обозначение: За воссоединение семьи! – произнес Саша и метнул рюмку в рот. Ирина заметила, что он не пьет, а именно мечет– одну за другой (В. Токарева, ruscorpora); Собаки смущенно закашлялись – не залаяли, а именно поперхнулись (Л. Петрушевская, ruscorpora).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу