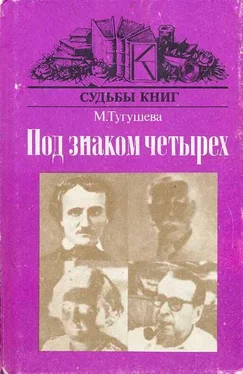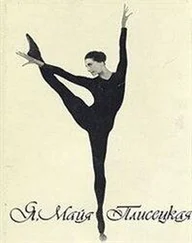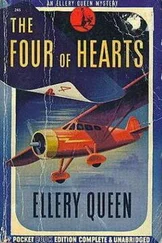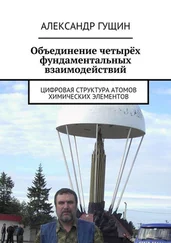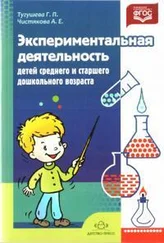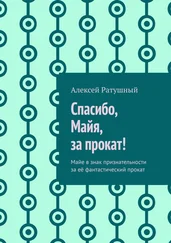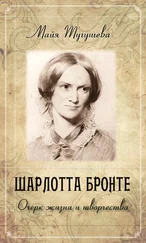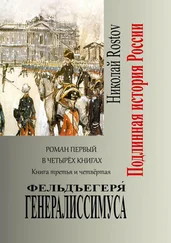Более терпимо отнеслась Кристи к знаменитому Бэзилу Рэтбоуну, прославившемуся в роли Шерлока Холмса. Теперь он играл преступника Джералда в фильме «Любовь незнакомца», снятом по ее рассказу «Соловьиный дом» (1937). Экранизации, она считала, все-таки полезны, так как приносят доход и способствуют росту популярности, а конкуренции роману составить не могут, им не под силу овладеть секретом непредсказуемости ее «игры». Сценаристам и впрямь чаще всего не удавалось и не удается скрыть детективную тайну до конца фильма. Силой наглядности, зрелищного экранного образа она нередко обнаруживается задолго до финала. Так оно и в нашем фильме «Тайна черных дроздов» (по роману «Карман, полный ржи»). Ланселота начинаешь подозревать чуть ли не с его первого появления на экране: кажется, что актер, знающий, кого он играет, не в силах хранить эту тайну про себя, его знание прорывается в некоей многозначительности исполнения. Даже если персонаж романа умеет носить личину, магия экрана часто позволяет видеть под маской истинное лицо, хотя актер вовсе не желает его демонстрировать. Сценическая наглядность и актерство разрушают иллюзию невиновности Ланселота и позволяют зрителю догадаться, кто есть кто.
Иногда тайна обнаруживается из-за какой-нибудь характерной, колоритной и опять же наглядной подробности, которую в романе можно спрятать. Так, судья в фильме С. Говорухина «Десять негритят» говорит слишком судейским тоном, а в глазах его сверкает такой зловещий огонь отмщения, что зритель угадывает в нем таинственного владельца замка, решившего покарать своих гостей. Да и в облике возлежащего на смертном одре судьи, облаченного в пурпурную мантию, в четырехугольной судейской шляпе есть некая искусственность. Слишком нарочита эта красочная торжественность, чтобы поверить в то, что судья действительно мертв.

Маргарет Резерфорд в роли мисс Марпл в фильме «Эй, наверху»
Нельзя сказать, однако, что сделанный на Одесской киностудии фильм «Десять негритят» неудачен. Постановщик прекрасно передал безумный, иррациональный страх, в котором живут гости, обреченные хозяином замка на смерть и роковую неотвратимость возмездия. Но характерно (и так оно в романе Кристи), — в этом возмездии есть чудовищная, изощренная бесчеловечность, так как вершителю справедливости, судье-маньяку, неведомо чувство жалости. Когда-то он не позволил присяжным проявить милосердие к обвиняемому, и тому был вынесен смертный приговор. Судья тогда убедил себя, что обвиняемый, безусловно, виноват и заслуживает казни. Правда, убив человека с помощью закона, он и себя казнит самоубийством, но лишь после того, как отправил на тот свет еще девять человек, и его собственная смерть не искупает эти девять смертей и того безумного, мучительного страха, который испытали несчастные «визитеры».
Каковы бы ни были субъективные воззрения самой Кристи, считавшей смертную казнь актом справедливости, роман «Десять негритят» позволяет предположить, что и законное, справедливое лишение человека жизни неэтично. И наш фильм «Десять негритят» подчеркнул именно эту нравственную посылку в полной гармонии с логикой романа.
Если роман Кристи почему-либо не попадал на киноэкран, то можно было с уверенностью ожидать его сценического воплощения. Надо сказать, что и самой Агате Кристи очень нравилось адаптировать свои романы для театра: «Я обнаружила, что писать пьесы гораздо увлекательнее, чем книги… не надо заботиться о длинных описаниях местности и персонажей и надо писать быстро, чтобы уловить настроение минуты и непрерывно следить за тем, чтобы диалог звучал естественно». Среди ее адаптаций особенно популярны «Десять маленьких индейцев» (1943). Почему не «негритят»? А потому, что слово «nigger» (хотя именно оно употребляется в невинной считалке) стало уже восприниматься как оскорбление. В адаптированный для сцены вариант Кристи внесла и мелодраматическую нотку: двум «индейцам» все-таки удалось избежать общей трагической участи.
Кристи написала также пьесы по романам «Смерть на Ниле» (1945), «В направлении к нулю» (1946), радиопьесу «Мышеловка» (1952), пьесу «Свидетель обвинения» (1953, по одноименному рассказу, фильм вышел позднее), «Паутина» (1954), «Приговор» (1958). Последняя пьеса провалилась, публика ожидала, как всегда, таинственного убийства и захватывающего раскрытия тайны, однако, хотя «убийство было, но расследования не было», — резюмировала Кристи, — отсюда и неудача. Она «исправилась», и следующая пьеса «Неожиданный гость» (1958) выдержала 604 представления. Однако не только увлекательность самого процесса заставляла Кристи переделывать свои романы для сцены. Она совершенно не выносила, как известно, вольного обращения с текстом или сюжетом, но прежде всего с образом Пуаро.
Читать дальше