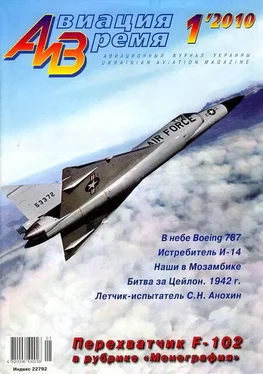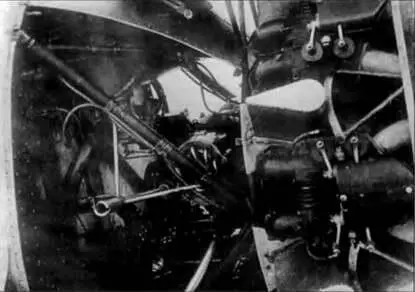В ходе испытаний Попов отмечал, что самолет очень строг в управлении и требует малых отклонений рулей для выполнения эволюции. Тогда же впервые столкнулись с «ахиллесовой пятой» И-14 – запаздыванием выхода из штопора. После четырех витков, которые выполнял Попов, самолет добавлял «от себя» еще два-два с половиной.
Заводские испытания завершились 13 декабря 1933 г. В целом, они показали, что почти все требования УВВС удалось выполнить. Лишь в практическом потолке недобрали 100 м (9400 м вместо 9500 м). А вот полученные взлетно-посадочные характеристики даже близко не соответствовали заданным. Реальный разбег втрое превышал записанные в соответствующий пункт 40 м! На посадке истребитель пробегал 220 м вместо 80 м. Почему такое несоответствие? Все очень просто! Специалисты УВВС заложили в задание на скоростной моноплан показатели привычного для них истребителя-биплана такого же веса. Разумеется, удовлетворить таким требованиям было невозможно.
Заводские испытания позволили выявить и ряд конструктивных недоработок. Несовершенной признали систему уборки шасси, неудачной – конструкцию фонаря кабины. Но ведь все это тогда делали впервые! Недостатки были очевидны, но в первый экземпляр никаких существенных изменений вносить не стали. Их решили учесть во второй машине И-14бис (АНТ-31бис).
2 января 1934 г. первый экземпляр приняли на Государственные испытания. Самолет перегнали в Щелково в НИИ ВВС. Там его облетывал Т.П. Сузи. Общая оценка примерно соответствовала отзывам летчиков ОЭЛИД. Хотя на лыжах И-14 разогнался всего до 330 км/ч, это посчитали отличным результатом, полагая, что на колесах он «даст» не меньше 370-380 км/ч. Как было записано в отчете НИИ ВВС, при этом И-14 <���… не будет уступать лучшим скоростным заграничным истребителям, превосходя их вооружением». В отношении последнего имели в виду две ДРП, которые уже монтировали на «дублере». Путевую устойчивость И-14 оценили в целом как хорошую, хотя Сузи отметил: «При брошенном управлении валится вправо и клюет. Необходимо все время поддерживать ручкой». Зато на пикировании самолет вел себя очень устойчиво.
В отношении недостатков самолета военные также были солидарны с коллегами из ОЭЛИД. Например, они обратили внимание на строгость выполнения виражей, на которых машина вела себя неустойчиво. Резкой критике подвергли шасси. Его уборка и выпуск занимали 3-4 мин. Получалось, что при высоте менее 1000 м в случае отказа двигателя пилот просто не успевал выпустить колеса. В зимнем обмундировании в тесной кабине качать насос и крутить лебедку было практически невозможно.
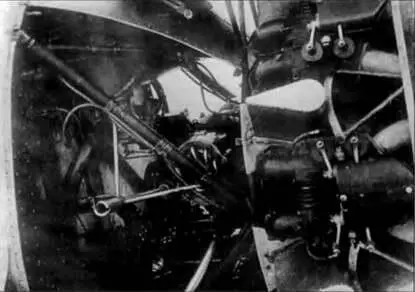
Раскапотированный мотор «Меркьюри» IV и кабина первого опытного И-14


Закрытый фонарь оценили двояко. С одной стороны, ниоткуда не поддувало и пилоту было тепло. С другой – фонарь существенно ограничивал обзор и показался очень тесным – голова летчика находилась вплотную к колпаку. Испытатели пришли к выводу, что в случае аварии открыть фонарь нельзя. Даже на земле, если машина скапотирует, пилот самостоятельно вылезти из нее не сможет. Последнее, к сожалению, проверили на практике – на испытаниях И-14 разок перевернулся на посадке.
Беспокойство вызвала недостаточная прочность крыла. Запас прочности для некоторых ситуаций не превышал 7 при требуемой цифре 11.5. Причина была в неправильной термообработке труб лонжеронов. Вообще, качество изготовления опытного самолета сурово раскритиковали. В отчете записали: «Отделка самолета и качество производства стоят на низком уровне». Нашлись неза-контренные болты, плохо закрепленные подшипники. Обтекатели болтались, карбюратор тек, различные прорези (например, для костыля) были несоразмерно велики. В отчете появилась запись: ««… все это вместе создает безрадостную картину состояния машины". После этого неудивительным покажется вывод специалистов НИИ ВВС: «Самолет… является недоведенным, выполнение заданий связано с риском для жизни летчика…». Однако этот вывод вовсе не зачеркивал больших перспектив нового истребителя. Все недостатки первого опытного самолета требовалось учесть при работах над «дублером».
Читать дальше