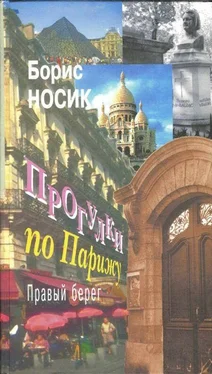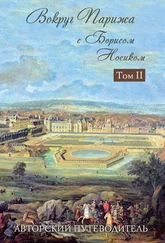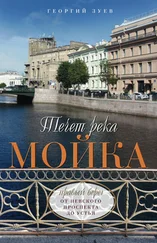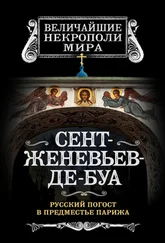– Вот кровать, на которой я сплю, – это не музей, а прочее – все музей».
«Как ни был я молод тогда и неопытен, – пишет Дерман, – мне сразу стало ясно, что передо мной сидит очень, в сущности, одинокий человек. По виду он был горд, речь его дышала независимостью, в осанке его сквозило даже нечто надменное. Но сквозь все это пробивалось какое-то застарелое и едкое чувство неоплаченной обиды. С уверенностью я не знаю до сих пор, в чем она заключалась, но проявлялась она, так сказать, универсально. В частности, Онегин, по-видимому, чувствовал себя обойденным как знаток творчества Пушкина».
Русские журналисты и до и после революции немало злобствовали по поводу алчного парижского Плюшкина, которому академия обещает пенсию. Ученые, напротив, умели ценить парижского отшельника. Академик М. Алексеев писал об Онегине:
«Взамен родины, взамен семьи, которой у него не было, он создал себе в самом центре Парижа свой особый мир, мир русской литературы во главе с Пушкиным…»
В этом мире были прекрасные женщины – Машенька Протасова-Мойер, Наталья Гончарова-Пушкина-Ланская, Александра Гончарова-Фризенгоф, Александра Россет-Смирнова и Александра Арапова… Они не были для него призраками минувшего: он жил среди них до самого 1925 года, когда окончательно присоединился к их сонму восьмидесяти лет от роду. В последние полтора десятка лет его жизни до него доходили иногда вести, что он давно умер. При случае он их опровергал. В 1910-м на собрании эмигрантов в Париже академик М. М. Ковалевский упомянул как-то, что прототипом тургеневского Нежданова был некий Отто-Онегин. После доклада Онегин подошел к докладчику с толковыми поправками и дополнениями. Потом представился. Академик был изумлен:
– Батенька! А я-то думал, вы давно померли!
Конечно, и он умер в конце концов: 25 марта 1925 года, не дожив ни до почестей, ни до выставок, ему посвященных, ни до благодарных слов неторопливой на похвалы родины. Когда вскрыли его завещание, оказалось, что он завещал России и Пушкинскому Дому не только все свое имущество, но и весь свой капитал – сэкономленные им 600 000 франков. Себя он велел похоронить подешевле, по «шестому разряду», тело сжечь, а пепел не сохранять. В загробное будущее и дальнейшую свою судьбу не верил. Вот и напрасно…
Как вы уже убедились во время странствия по кварталу, прилегающему с севера к Елисейским полям, – это очень богатый, элегантный район, всегда тяготевший к славе и роскоши Елисейских полей и Лувра да и нынче сохраняющий все нервные центры власти и богатства (и президентский дворец здесь, и резиденция правительства, и МВД, и полиция, и банки, и дома моды). Позвоночным хребтом квартала, как любят выражаться с прозекторской лихостью французские авторы, является длинная и весьма знаменитая улица Фобур-Сент-Оноре. Слово «фобур» (faubourg) значит «слобода», оно присутствует в названии многих французских улиц, точнее – той их части, которая, перешагнув за былую оборонительную стену или былую заставу, продолжалась в пригородной слободе. Улица Сент- Оноре, протянувшись от Лувра параллельно саду Тюильри, обретала за нынешней площадью Согласия свое загородное, «слободское» достоинство и становилась улицей Фобур-Сент-Оноре. Собственно, поначалу никакой улицы не было, была дорога, ее называли Рульской дорогой, или Рульским шоссе, потому что дорога эта соединяла маленький тогдашний Париж с пригородной деревушкой Руль. Нынешний западный участок улицы, от церкви Сен-Филипп- дю-Руль до нынешней площади Терн (через скрещение с нынешней авеню Ош), был просто деревенской улицей, которая по традиции называлась Большой, или Главной, улицей. Ну а в 1722 году деревня стала предместьем Парижа, слободой, и дорога эта, весьма извилистая из-за бесплановой застройки, стала слободской улицей, Фобур- Сент-Оноре (это уже барон Осман включил все эти слободы в черту города, одним махом увеличив диаметр Парижа до десяти километров, как Хрущев – диаметр Москвы до сорока). На Фобур-Сент- Оноре парижская знать строила на протяжении всего XVIII века великолепные дворцы-отели, вроде отелей Шарост, Эвре, Аржансон, Дюрас, а также все эти безумной роскоши дачи, где можно было поодаль от двора и города предаваться веселью, искусству и распутству с друзьями и милыми дамами. Они так и назывались, эти загородные особняки-усадьбы, – «фоли» (folie), что означает также «сумасбродство», «безумие», «шалость», «дурачество», «страсть»: не сомневайтесь, что все это имело место на здешних с безумной роскошью и причудами построенных дворцах-дачах (иные, впрочем, утверждают, что первоначально название этих дач шло от слов «лист», «листва», так сказать, дом в зелени, что тоже возможно). Самой знаменитой из них была в этих местах усадьба богача Божона, на остатках которой позднее возникли парк аттракционов братьев Руджиери и «французские горки» (некое подобие того, что в Европе называли «русские горки», а в России – «американские горки»). Остаток одного из этих приютов безумства и роскоши купил перед самой смертью транжир и мот Оноре де Бальзак, которому так и не удалось насладиться вожделенной роскошью. Среди наиболее солидных здешних сооружений того времени были конюшни графа д'Артуа, которому и принадлежали близлежащие земли.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу