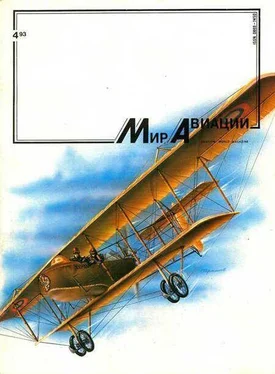Произошло следующее. Сразу же после взлета "Муромец" попал в густой туман. После поворота начались последовательные горки, затем со 100 м машина пошла круто вниз. Романов бросился помогать Алехновичу тянуть штурвал на себя, но было уже поздно – корабль, ударившись лыжами о землю, сделал скачок, продолжая поступательное движение, затем последовал второй удар, после которого он разрушился. Все члены экипажа отделались сильными ушибами, кроме военлета Алехновича. Его нашли среди обломков фюзеляжа под левым мотором с разбитой головой… Комиссия по расследованию происшествия вынесла такое заключение: "…авария произошла из-за совокупности следующих причин: плохая погода, коренные недостатки корабля, возможность запотевания очков у пилота". Это была единственная катастрофа "Муромца" в Красной Армии.
Со II-м кораблем, находившемся на Южном фронте в Мордово, дело обстояло не лучше. Весь декабрь 1918 г. Ns 242 простоял под снегом в поле у ст. Стрелецкая, так и не сделав ни одного боевого вылета. "Муромец" был сильно потрепан бурями, его крылья и фюзеляж требовали капремонта. Поэтому в январе 1919 г. его разобрали и отвезли в Липецк.
"Илья Муромец" тип Г-3 "Ренобалт" в 1918 году
| Заводской номер |
Номер в Эскадре |
Дата прибытия, место назначения |
Примечание |
| Г-74 239* |
I, III |
4.11.1918, Липецк |
списан в ноябре 1918 г. |
| Г-75 240 |
— |
10.1918. Липецк |
списан в ноябре 1918 г. |
| Г-76 241** |
— |
10.1918, Липецк |
списан в сентябре 1919 г. |
| Г-77 242 |
II |
18.11.1918. Липецк |
списан в январе 1919 г. |
| *** |
- |
10.1918. Липецк |
не был собран |
| Г-79 244 |
|
|
|
* Корабль 1-й № 239 был переименован в II 1-й, т. к. у него обнаружили деформированный лонжерон фюзеляжа и признали аппарат негодным к перелету на фронт
** как и № N9 239,240, признан негодным к полетам из-за деформации лонжерона фюзеляжа. Позже отремонтирован. В 1919 г. использовался как учебный.
** В ноябре 1917 г. погружен на платформы и отправлен в Винницу; в октябре 1918 г. прибыл в Липецк в негодном для сборки состоянии.
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Максимилиан САУККЕ
Москва
Памяти заключенных спецтюрьмы ЦКБ-29 НКВД
Журнальный вариант главы из рукописи "Неизвестный Туполев"
Шла вторая половина 1937 г. Главный инженер ГУАП и руководитель ведущего ОКБ по самолетостроению Андрей Николаевич Туполев был полон творческих замыслов. Его слава шагнула за пределы страны. Он сумел объединить в своем КБ талантливых инженеров и конструкторов. Его уважали рабочие за умение обращаться с молотком, надфилем, рубанком, рейсмусом… Он пользовался авторитетом у инженеров за способность не только понять их видение разрабатываемой ими конструкции, но и помочь, в случае надобности, в решении сложного вопроса. Ученые разных специальностей общались с ним с удовольствием и как с инженером широчайшего кругозора, и как с человеком, не стеснявшимся спросить о том, чего не знал или не понимал до конца.
Он разработал и первым в мире построил многомоторный цельнометаллический моноплан со свободнонесущим крылом. Четырехмоторные гиганты тех лет, самолеты ТБ-3 (АНТ-6), составляли основу дальнебомбардировочной авиации. С его скоростным двухмоторным фронтовым бомбардировщиком СБ (АНТ-40) в небе Испании и Китая не могли справиться истребители противника. Проходил испытания самолет ТБ-7(АНТ-42)- бомбардировщик нового поколения.
Но на его жизненном пути случались и неудачи. Когда они касались технических решений, то это, хотя и было обидно, но отвечало естественным процессам инженерного творчества. Хуже было, когда работе мешало непонимание вчерашних единомышленников, вставали преграды идеологического плана со стороны руководителей промышленности и государства.
Обычно считалось, что научный институт занимается проблемами теории, а их практическое воплощение лежит на промышленности. Руководитель ЦАГИ Н.Е.Жуковский, опираясь на свой авторитет, добился того, что институт начал работать не как все институты. В нем шли и научные изыскания, велась и производственная работа. Но 17 марта 1921 г. не стало "отца русской авиации", Довольно скоро вопрос о генеральной линии института поднялся с новой остротой.
Начало 1923 г. было отмечено развернутым возведением корпусов для лабораторий ЦАГИ. 22 марта руководство института обратилось в ВСНХ с докладной запиской, обосновывающей необходимость такого строительства. В июле ЦАГИ получил на эти цели первые 50 ООО рублей. Конечно, все это было необходимо для активизации научной деятельности института. Но при этом оставили без внимания вторую, практическую, сторону работы. Еще в октябре 1922 г. в ЦАГИ начало работу КБ Туполева. Оно ютилось в неприспособленных для конструкторской и производственной деятельности помещениях. Никаких мер по созданию в КБ нормальных условий работы руководством института не принималось. Зная настойчивость Туполева в деле создания солидной базы для цельнометаллического самолетостроения, руководство ЦАГИ стремилось не допустить его к делам строительным.
Читать дальше