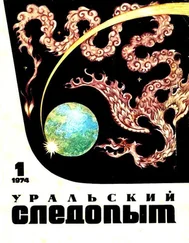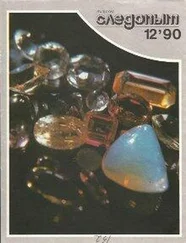Без птиц торфяник показался бы голубой пустыней. Но их голоса сплетаются с говором ручьев, с тихим звоном воды, им радуешься, как вестникам солнца и весны.
Вот маленькие реполовы с красными печатками на атласных грудках. Они присели отдыхать на провода. И грустно-радостно льются их песенки. В них найдешь тихую печаль пасмурного дня, блеск ручьев, холодный ветер, северные, елки, любовь и тоску — да мало ли что еще…
Не знаю, отчего композиторы не пишут музыку с птичьих песен, почему не слушают песенки птиц так же торжественно-благоговейно.
Вместе с жаворонками на сухих буграх появились самые простенькие весенние птицы — камышевые овсянки.
Они похожи на воробьев. Неопытный человек как раз спутает. Только голова у них в черном капоре, да белым ошейничком щеголяют самцы. Овсянки эти смирные. Идешь по гребню бугра, а птичка копошится на тощем весеннем дерне, выбирает мельчайшие семена и, жалко поглядывая, тихонечко тянет: «тсии… тсии… и… и».
Мне думается, она говорит:
— Проходите, пожалуйста… Не спугивайте меня. Я бы слетела, уступила дорогу, да уж очень есть-то хочется… Проходите, пожалуйста…
Когда много бродишь по лесам и жизнь твоя идет вместе с пролетными стаями, березами и полевыми ветрами, начинаешь помаленьку учиться тому удивительному языку, простому и мудрому, каким говорят птицы, лопочут листья, шумит вода, скулит ветер. Вот так же приезжает человек за границу, кругом все незнакомое, непривычное: дома, улицы, люди, одежда и речь. Кажется, никогда не привыкнет, а поживет, послушает, глядишь, понимать начал и сам заговорил.
В лесу и в поле учишься по складам, многократно повторяя. Зато уж на всю жизнь запомнишь, если говорят сороки: «кук, крэк, крэк» — значит, у гнезда болтают, так себе, обсуждают, чей хвост длиннее, а если стрекочут: «ка-ра-га-ча-ча» — значит, человек где-то поблизости идет.
Ранней весной все на болоте голо, просто, убого — как проста и убога всякая рань вообще. Наверное, земля наша на заре времен была такой же простой и скудной.
Одни вербы стоят в канавах, как невесты, готовые к венцу. Дышит холодом сибирский ветерок, безжизненна желтая снеговая вода, но во всей этой наготе, голости, неустроенности чувствуется что-то юное, чистое, робкое, еще не начавшее формироваться, но уже готовое к чему-то высокому и светлому. Так в угловатой нескладности девочки-подростка вдруг замечаешь черты удивительной женской красоты…
…Дни бегут. И неуловимо меняется облик торфяника. Уже не так безотрадно смотрят голызины ветвей в полдневную синеву, а серая щетина ивняков вдали чуть зеленеет размытой акварелью. Золотыми веснушками мать-и-мачехи осыпаны торфяные бугры. Цветет калужница вдоль канав, зелеными ежами сделались кочки. Словно сбросила Весна голубую хламиду, осталась веселая, в зеленом сарафане.
Скворцы всюду. Они свистят по ветлам, бормочут на остожьях, скрипят по телеграфным столбам, мяукают и взвизгивают на дальних скворечнях, в такт прихлопывая опущенными крыльями, словно перед тем, как пуститься в пляс. Они пасутся в осоке, глянцевито чернея, бродят между кочек. Они шуршат в тростнике и проносятся над головой острокрылыми черными стрелами.
Бекасиным блеяньем туго гудит вышина. Чибисы с унылым изгибом странных крыльев вьются над неприступными кочками. На все голоса чисто и мелодично звенит пролетная куличья станица. Плаксиво-призывно канючит коршун: «иррр-а-а-а… иррр-ра-а-а-а!» Кажется, что потерял он какую-то Иру и вот летает, кружит, ищет — не может найти.
Две беленькие трясогузки с тревожным чиликаньем сопровождают хищника. Вьются вокруг, залетают вперед, бесстрашно шмыгают у самого клюва. А коршун, знать, не хочет их ловить, махнет раз-другой изогнутыми крыльями, плывет дальше, покрикивая свою Иру.
А я задумываюсь, может быть, правда у коршуна есть такая подружка. Почему бы не зваться ей Ирой. Имя самое модное. А то, что все коршуны кричат одинаково, — сущий пустяк. Ведь даже мы являемся жертвами моды, и уж если пойдут у нас все Светланы и Наташи — так нет им ни числа, ни края.
На болотную жизнь смотреть надо не торопясь, вдумчиво и пристально. Лучше всего медленно идти, выбирая дорогу посуше, или лежать на теплом дерне, следя за плывущими облаками. Тогда словно чувствуешь движение земли, ощущаешь, как она, огромная, медленно и весомо поворачивается к солнцу и вместе с нею поворачиваешься ты сам.
Сладко греет солнышко, пряным дурманом кадит разомлевший багульник, и сыро пахнет оттаявшей землей и высыпками молодой травы.
Читать дальше