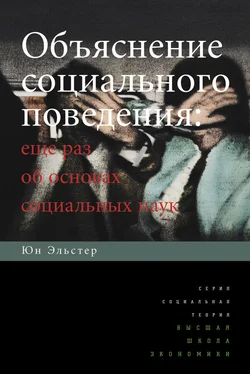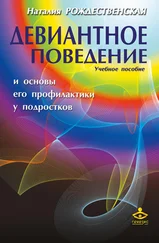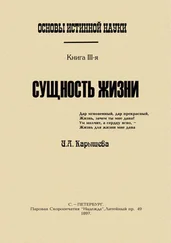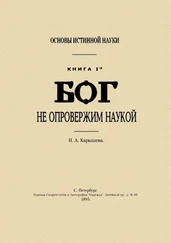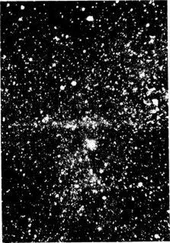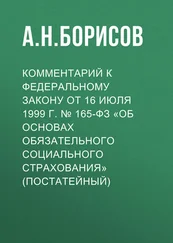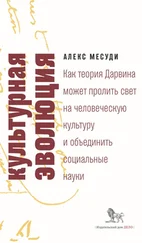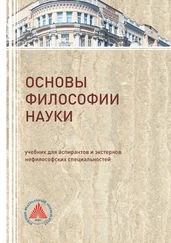В публичной политике также действует два вида мотиваций. Тот, кто разрабатывает политику, может применить принцип «Находка принадлежит нашедшему» (как в патентном законодательстве), предположив, что если человек, открывший ценный ресурс, получит право собственности на него, то будет открываться больше ценных ресурсов. Это консеквенциалистский аргумент. Неконсеквенциалистским аргументом в пользу такой политики будет утверждение, что человек, открывший ресурс, будь то кусок земли или лекарство от рака, обладает естественным правом собственности на него. В качестве другого примера мы можем рассмотреть речь (XXXI) Диона Хризостома против практики Родеана использовать старые бронзовые статуи для почитания благотворителей города, что, как он утверждал, одновременно нарушало права тех, в честь кого эти статуи были первоначально воздвигнуты, и отвращало новых благотворителей, которые понимали, что статуи, воздвигнутые в их честь, вскоре снова будут использованы для кого-нибудь другого. Консеквенциалистские аргументы могут (как кажется) оправдывать жесткие меры против террористов, даже если предпринятые шаги нарушают неконсеквенциалистские ценности, связанные с правами человека и гражданскими свободами [64].
Особым случаем неконсеквенциолистской мотивации является принцип, который будет фигурировать у меня под разными именами – бытовое кантианство, категорический императив или магическое мышление, – «Делай то, что для общего блага следовало бы делать всем» . В определенном смысле этот принцип связан с последствиями, так как агент делает то, что даст наилучший результат, если бы все остальные делали то же самое. Однако это последствия не его действия, а гипотетической серии действий агента и других людей. В некотором конкретном случае действие согласно этому принципу может иметь катастрофические последствия, если остальные ему не последуют. На международной арене примером может служить одностороннее разоружение.
Другим случаем является следующий принцип еврейской этики. Предположим, враг у ворот и он заявляет: «Отдайте мне одного из вас, он будет убит, и мы пощадим всех остальных. Если откажетесь, мы убьем вас всех». Талмуд предписывает евреям погибнуть, но не выдавать жертву во имя спасения остальных. Однако если в тех же обстоятельствах враг говорит: «Отдайте мне Петра», то это требование приемлемо. Это не запрет на то, чтобы пожертвовать кем-то ради спасения остальных, а запрет на выбор того, кем пожертвовать. Роман «Выбор Софи» представляет ту же самую дилемму.
Социальные нормы (глава XXII) представляют еще один специфический случай неконсеквенциалистского поведения с важным неожиданным поворотом. Они предписывают людям, что надо делать (например, отомстить за обиду или воздерживаться от того, чтобы есть детеныша, сваренного в молоке его матери), не потому что это даст какой-то желаемый результат, но потому, что это действие само по себе обязательно [65]. Хотя эти действия совершаются не ради какого-то результата, их можно рассматривать как действия, призванные предотвратить какой-то другой результат, а именно обвинения в том, что они были допущены. Но следом мы можем спросить: не выдвигаются ли эти обвинения по сходным консеквенциалистским причинам? Более того, если люди уязвлены действиями других людей, они отвечают тем же самым даже при одноразовом взаимодействии в условиях полной анонимности, которая может быть достигнута при проведении эксперимента. Так как интеракция одноразовая, испытуемые ничего не получат от столкновений в будущем, а так как она анонимная, они не боятся обвинений со стороны третьих лиц. Я еще вернусь к этим экспериментам в следующих главах.
Даже для ярого приверженца неконсеквенциализма последствия могут иметь значение, если они важны. Рассмотрим принцип, который многие считают безусловным, – запрет на пытку детей. Представим, что в сценарии тикающей бомбы необходимым и достаточным условием для предотвращения ядерного взрыва в центре Манхэттена является пытка маленького ребенка террористки у нее на глазах. Если можно было бы сделать этот сценарий достоверным, многие неконсеквенциалисты согласились бы с пытками. Другие сказали бы, что поскольку условия этого сценария не достижимы на практике, абсолютный запрет остается в силе. Еще кто-то сохранил бы запрет, даже если такой сценарий возможен. Моя задача здесь не ратовать за один из этих выводов, а сделать эмпирическое наблюдение, согласно которому в реальных жизненных ситуациях ставки редко бывают такими высокими, чтобы можно было заставить неконсеквенциалиста рассматривать последствия своего поведения. Возможно, что если бы на карту было поставлено нечто большее, он отказался бы от своих принципов, но так как до этого дело никогда не доходит, мы не можем сказать наверняка, имеем мы дело с чрезвычайной сговорчивостью или же с полным отказом идти на компромисс.
Читать дальше