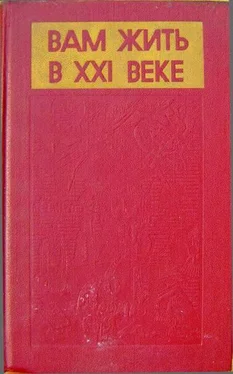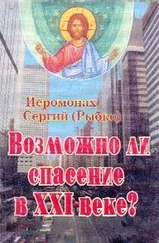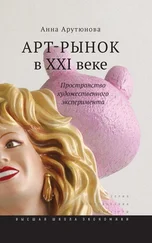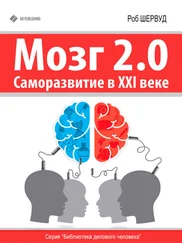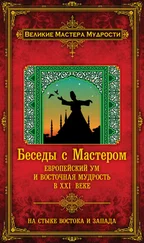Только ясно поняв эту главную цель, можно составить себе правильное представление о духовном облике Циолковского как ученого. Его нередко именовали самоучкой, но это неверно. Циолковский не был самоучкой, он был самообразовавшимся человеком: ведь он был учителем, а потому в отличие от самоучек должен был владеть системой знаний. И он овладел ею, только сделал это самостоятельно, без помощи и советов со стороны. Но чтобы на основе этой общеизвестной и общепринятой системы знаний выработать свою, как он выражался, «натурфилософию», Циолковскому — а он, вероятно, единственный в истории ученый, который самостоятельно создал самый предмет своих исследований, — требовалась невиданная дотоле эрудиция. Не случайно в одном из своих частных писем он писал: «По моей чрезвычайной любознательности я энциклопедист… Моя натурфилософия, которую я вырабатывал в течение всей жизни и ставил выше всякой другой деятельности, также требовала сведений во всех отраслях знаний».
Но чтобы совершить то, что совершил Циолковский, одних только энциклопедических знаний было недостаточно. Здесь нужен был человек, наделенный сверх того и величайшей фантазией, и редчайшей самостоятельностью, и, самое главное, бескорыстной жаждой служения научной истине, доходящей до самопожертвования. И все эти качества Константину Эдуардовичу Циолковскому были отпущены полной мерой. «Вся моя жизнь состояла из размышлений, вычислений, практических работ и опытов, — говорил он. — Всю жизнь я пылал в огне моих идей. Все же остальное я считал чересчур незначительным».
Неприхотливый в личной жизни и скромный во всем, что не касалось главного дела его жизни, Циолковский ясно понимал свое место и роль в том новом научном направлении, которое, в сущности, было создано его трудами. «Никогда я не претендовал на полное решение вопроса, — писал он. — Сначала неизбежно идут: мысль, фантазия, сказка. За ними шествует научный расчет. И уже в конце концов исполнение венчает мысль. Мои работы о космических путешествиях относятся к средней фазе творчества». К той самой средней фазе, которая переводит идею из разряда фантазий и сказок в разряд научно обоснованных возможностей и которая поэтому сильно действует на воображение ученых, инженеров и конструкторов, побуждая их заняться серьезной разработкой идей, еще вчера казавшихся неосуществимыми.
Вот почему в эпоху, когда обилие математических формул считалось едва ли не главным признаком высокого научного уровня работы, Циолковский редко прибегал к формулам более сложным, чем те, которые содержатся в школьных учебниках арифметики и алгебры, и в числе особенных достоинств своих трудов называл элементарность изложения. В результате чрезмерная математизация не затемнила, не скрыла от современников и потомков ни одной сколько-нибудь ценной научной идеи Циолковского, благодаря чему он как нельзя лучше сыграл роль «запевалы», роль пропагандиста космонавтики не только в России, но и за рубежом. В 1923 году, когда стали известны сведения о работах американца Р. Годдарда, немца Г. Оберта и француза Р. Эсно-Пельтри, Константин Эдуардович с гордостью писал: «Мы видим, что европейская наука буквально подтверждает мои выводы — как о полной возможности космических путешествий, так и о возможности устройства там жилищ и заселения околосолнечного пространства… Дело разгорается, и я зажег этот огонь».
После Октябрьской революции интерес советской научно-технической общественности к Циолковскому и его идеям резко возрос. К нему приезжают, ему пишут со всех концов страны молодые энтузиасты ракетостроения. И в 1926 году, переиздавая свое классическое «Исследование мировых пространств реактивными приборами», Константин Эдуардович в конце книги спешит набросать, как он говорил, «грубые ступени развития и — преобразования аэропланного дела, достигающего высших целей». Программа, во многом оказавшаяся поистине пророческой. Вот некоторые из этих «грубых ступеней».
— Создание ракетного самолета с крыльями с обычными органами управления. Выполнено в 1942 году советским конструктором В. Болховитиновым, создавшим ракетный самолет БИ, на котором летал летчик Г. Бахчиванджи.
— Проникновение в очень разреженные слои атмосферы. Выполнено в послевоенные годы как на ракетных самолетах, так и с помощью геофизических ракет.
— Полет за пределы атмосферы и спуск планированием.
— Создание искусственных спутников Земли. Выполнено в СССР 4 октября 1957 года — начало космической эры.
Читать дальше