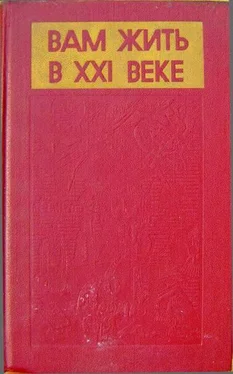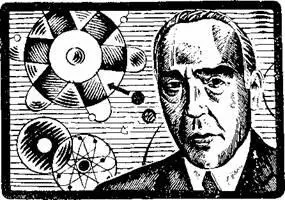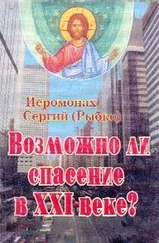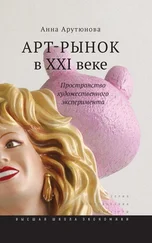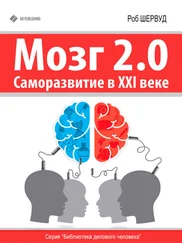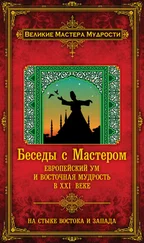Ведь освещенная (а значит, нагретая) сторона крылышка также отталкивает молекулы воздуха с большей силой, чем теневая. Здесь радиометрические силы возникают неизбежно. От них нельзя избавиться, не устранив самих лучей света, а значит, и светового давления. Ученый попал в заколдованный круг, и надо было быть Лебедевым, чтобы найти из этого выход. Он изготовляет новые приборы, ставит десятки опытов с целью уловить какие-либо закономерности в поведении радиометрических сил. И оказывается, что эти силы тем больше, чем тоньше пластинка, на которую падает свет. Раз так, то действие радиометрических сил хотя и нельзя исключить, но их теперь можно учесть! Для этого надо сделать совсем простую вещь! На пути света поставить не одно, а сразу два крылышка, причем одно из них должно быть в несколько раз толще другого. По разнице углов отклонения этих двух крылышек можно подсчитать радиометрические силы и исключить их при окончательных расчетах сил светового давления.
Задача была решена!
О своем выдающемся открытии Лебедев доложил з 1900 году. Начинался XX век, и блестящее достижение русского ученого как бы подводило итог физике прошлого и открывало дверь физике нашего времени. В том же, 1900 году Макс Планк ввел в науку понятие кванта, и пять лет оставалось до великих открытий Эйнштейна. Лебедев был в первом ряду тех, кто создавал новые физические воззрения.
У Петра Николаевича было больное сердце.
Эксперименты по световому давлению, завершенные им в 34 года, окончательно подорвали слабое здоровье: слишком велико было напряжение, слишком много сил — духовных и физических, слишком много бессонных ночей отдал Лебедев великому открытию. Он прожил еще двенадцать лет, но вполне здоров уже никогда не был. Временами он чувствовал себя так скверно, что и врачи и он сам были готовы ко всему.
Это были годы борьбы за жизнь, за возможность работать, оставаться в строю. Расстаться с жизнью он не боялся. Ему было лишь жалко, что вместе с ним «погибнет полезная людям очень хорошая машина для изучения природы».
Лебедев был постоянно начинен идеями. Еще в начале своего пути, когда он учился в Страсбурге у немецкого ученого Кундта, он засыпал своего учителя таким количеством предложений, что тот однажды разразился шутливым стихотворением:
Идей у Лебедева
Возникает двадцать каждый день.
И для шефа института еще счастье,
Что он половину их теряет,
Прежде чем попробует осуществить.
Лебедев шаг за шагом следил за ходом работ своих учеников, предвидя и предупреждая возможный трудности, приходя на помощь, когда трудности возникали непредвиденные. Он переживал успехи и неудачи учеников как свои собственные. Когда ему, уехавшему за границу лечиться, сообщили, что двое учеников добились хороших результатов, он ответил, что «охотно бы проехал три ночи в вагоне, чтобы увидеть их собственными глазами». Неудивительно поэтому, что, едва начав самостоятельные исследования, Лебедев встал во главе целой школы, и его школа скоро стала самой крупной и передовой в России.
В 1911 году в ответ на произвел властей группа передовых профессоров Московского университета решила покинуть университет. Лебедеву подавать в отставку было труднее, чем другим. Ведь вместе с кафедрой он терял лабораторию, с таким трудом созданную и оборудованную, лабораторию, в которой шли работы многих учеников. Но Лебедев не мог подчиниться произволу. Он предпочел потерять все. Ценой героических усилий больной ученый организует новую лабораторию. К осени 1911 года лаборатория возобновила все прерванные работы. Но здоровье Лебедева было окончательно подорвано. Он прожил еще только одну зиму.
Научная работа была для Лебедева смыслом всей жизни, источником подлинного счастья. Рассказывая в одном из писем о задуманном новом эксперименте, он писал:
«Но главное тут не оси и не нити, а чувство радости жизни, жажда ловить каждый момент, ощущение своей силы, своей ценности для кого-то или чего— то, яркий теплый луч, пронизывающий всю душу».
Больше всего Лебедева мучило то, что он никому не мог завещать воплощение своих самых важных идей. Словно Илья Муромец, выбиравший палицу по своей богатырской руке, Лебедев берется за такие проблемы, которые под стать лишь его могучему таланту, упорству, мастерству. А Лебедевы, к сожалению, рождаются так же редко. как и Ильи Муромцы.
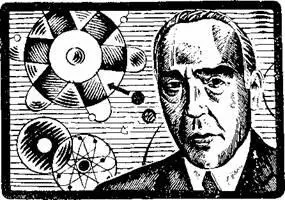
У Нильса Бора была огромная голова, и это однажды чуть не стало причиной непоправимой трагедии.
Читать дальше