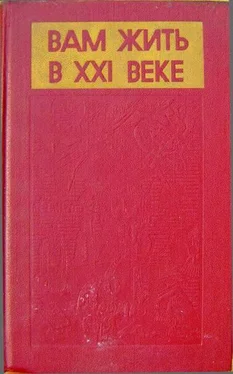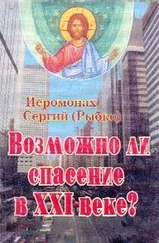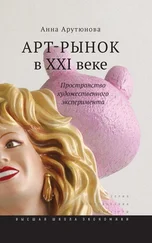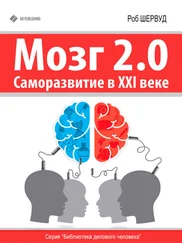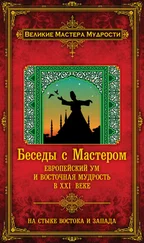Диалектик и естествоиспытатель В. И. Вернадский хорошо понимал, что ничто на Земле не может быть стабильным, вечным, идеальным. Мир есть и будет соткан из противоречий. Человек всегда будет вмешиваться в окружающий его мир, устраивать его для себя. И задача науки, цель науки и человеческих действий не в том, чтобы сохранить мир в его первозданном виде, а найти гармоничные формы взаимодействия человека и биосферы. Биосфера может прожить без человека, человек существовать вне биосферы не может. Вступление человечества в эпоху ноосферы означает, что и эволюция Земли вошла в новое русло. Человек теперь способен очень легко переступить ту «роковую черту», ту грань, за которой начнутся необратимые процессы. Биосфера начнет переходить в новое состояние, и места для человека в ее новом состоянии может не оказаться. Вот почему человечество должно предвидеть результаты своих действий и знать, где лежит «запретная черта», отделяющая возможность дальнейшего развития цивилизации от ее более или менее быстрого угасания.
Важнейшая задача современной науки — создать инструмент, способный увидеть эту «запретную черту», этот рубеж, переступать который человечество не должно ни при каких обстоятельствах.
В Вычислительном центре Академии наук СССР мы пришли к выводу, что решение проблем глобального масштаба неизбежно потребует построения математической модели биосферы, рассматриваемой как единое целое.
Модель состояла из двух связанных между собой систем. Одна группа описывала процессы, происходящие в атмосфере и океане, и позволяла изучать явления климатического характера. Другая — круговорот углерода в природе с учетом жизнедеятельности растений. Понадобились помощь и советы многих научных организаций — Главной геофизической обсерватории, Института почвоведения, Института географии Академии наук СССР и многих других организаций, прежде чем была создана система «Гея», позволившая получить чрезвычайно интересные результаты.
Для первых экспериментов с системой «Гея» мы выбрали проблему увеличения концентрации углекислоты в атмосфере.
Этот вопрос не зря волнует ученых. Концентрация углекислоты за XX век существенно возросла. К концу первой четверти XXI века она еще удвоится. Это может заметно повысить среднюю температуру, что приведет к уменьшению перепада температур между экватором и полюсом. Средние температуры на экваторе практически не меняются. Изменения средних температур происходят за счет полярных зон.
А этот перепад — главный двигатель, благодаря которому происходит движение атмосферы, переносящее тепло от экваториальных зон к полярным. При его уменьшении циркуляция атмосферы делается более вялой, уменьшается влагоперенос. Значит, засушливые зоны становятся еще более засушливыми, продуктивность растительного мира падает…
Первый большой эксперимент, проведенный на модели «Гея» в Вычислительном центре Академии наук СССР, в основном подтвердил приведенные выше рассуждения. Математическая модель «Гея» превратилась в реальность. С ее помощью мы и приступили к исследованию климатических последствий ядерной войны.
Долгое время считалось, что ядерные взрывы действуют на атмосферу примерно так же, как вулканы. А поскольку даже наиболее сильные извержения, вроде взрыва вулкана Тамбора в Индонезии, выбросившие в атмосферу в 1815 году около 100 кубических километров пыли, не вызывали серьезных климатических изменений, считалось, что влияние ядерной войны на климат планеты не может быть значительным.
Однако проведенные исследования показали, что ядерная бомба может сыграть роль спички, которая зажжет пожары невиданной силы. Такие пылающие вихри получили название «огненных торнадо». Раз вспыхнув, они сами выделяют огромные, все увеличивающиеся количества энергии. И если приток кислорода достаточно интенсивен, то «огненные торнадо» прекратятся лишь тогда, когда выгорит все, что может гореть, — и металл, и железобетон, не говоря уже о дереве, пластмассе. При тепловом импульсе, превышающем 20 калорий на квадратный сантиметр, сгорает практически все.
Для мощных ядерных взрывов, как показали расчеты, «огненные торнадо» — обязательные спутники. Все это заставило ученых серьезно заняться проблемой пожаров.
В городах из-за высотных зданий образуется сильная тяга — как в хорошей печке с высокой трубой. В результате и вспыхивает «огненное торнадо». Количество сажи, которое поступит в атмосферу, если в огненном вихре сгорит большой город, способно породить такое плотное и густое облако, что под ним станет темнее, чем в самую безлунную ночь. А поскольку городов, которые в случае ядерной войны подвергнутся атаке, будет много, то можно ожидать, что последствия этих ядерных ударов окажутся поистине катастрофическими.
Читать дальше