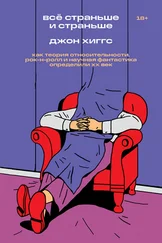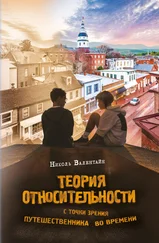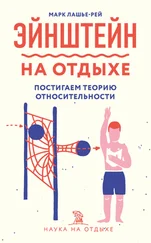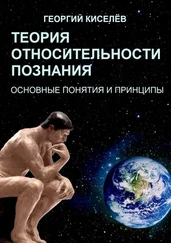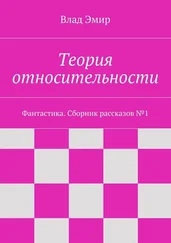Должно быть, я кажусь кем-то вроде страуса, который всегда прячет голову в песок относительности, чтобы не встречаться с проклятыми квантами.
Из письма Эйнштейна к физику Луи де Брогли
Все началось, когда Макс Планк заявил, что материя испускает и поглощает электромагнитное излучение в виде порций (квантов) энергии, причем размеры этих порций не произвольны: сама природа задавала нижнюю границу энергетического обмена. Эйнштейн пошел еще дальше, предположив, что само излучение определяло «ограниченное количество квантов энергии», даже когда оно распространялось в пространстве свободно, вдалеке от тел.
Эйнштейн не одобрял идеи о непрерывном электромагнитном поле Максвелла и об определенной форме материи, состоящей из атомов и молекул. Непрерывное против дискретного – эти явления никак не соответствовали друг другу.
Если можно было бы рассмотреть электромагнитные волны сквозь квантовую линзу, мы бы увидели бесконечное множество частиц, подобно тому, как фотография при приближении на экране компьютера распадается на тысячи пикселей.
В течение долгого времени научное сообщество тактично игнорировало эту гипотезу. Когда в 1913 году кандидатура Эйнштейна была выдвинута для включения в Прусскую академию наук, Нернст и Планк в своем рекомендательном письме расхваливали ученого, однако отмечали, что иногда он «слишком далеко заходит в своих предположениях, как, например, в гипотезе о кванте света». Основная проблема, как и в случае с относительностью, состояла в том, что многие из догадок Эйнштейна пока было невозможно доказать экспериментальным путем.
Несмотря на общий скепсис, Эйнштейн, как обычно, стоял на своем. В 1916 году он сформулировал идею, которую вынашивал почти десятилетие: обмен энергией происходит в форме образования частиц, обладающих моментом силы (векторной величиной, равной массе тела, умноженной на его скорость).
То есть кванты света, или фотоны, вели себя как снаряды энергии. Спустя семь лет эта гипотеза была подтверждена в лаборатории Артура Комптона (1892-1962).
Однако под влиянием работ Бора, Гейзенберга и Борна Эйнштейн практически без перехода поменял позицию со слишком смелой на слишком консервативную.
В случае черных дыр мы увидели, как с помощью спектрального анализа можно определить элементарный состав излучающего тела. Атомные спектры предлагали бесценный инструментарий анализа для физиков, позволяющий формулировать сложные вопросы. Например, чем заряжен каждый заряд? Какова его структура? Методом проб и ошибок швейцарец Иоганн Бальмер описал с помощью простой формулы известный к тому времени спектр атомов водорода, однако так и не смог объяснить ее теоретические основы.
В 1912 году молодой датский физик Нильс Бор приехал в Университет Манчестера, чтобы просить о доступе к лаборатории Шустера. Директор лаборатории, Эрнест Резерфорд (1871-1937), вскоре оценил склонность Бора к решению парадоксов; он действовал словно дорожный каток – медленно, но верно. Использовав уравнения Планка и Эйнштейна, Бор создал модель атома, определив, что электроны могут двигаться только по определенным стационарным орбитам. Каждой орбите соответствует свой уровень энергии, и при переходе электронов с одной орбиты на другую происходит поглощение или излучение энергии в виде квантов электромагнитного излучения (или фотонов). Энергетический заряд кванта соответствует разнице в уровне энергии между орбитами.
Внутренняя структура каждого элемента подобна амфитеатру, ступени которого соответствуют разным уровням энергии; электроны перемещаются с одной ступени на другую, поглощая или испуская фотоны с характерным спектром. Таким образом, излучение соответствует строению атома (рисунки 3 и 4).
Алан Лайтман, говоря о статье Бора, отмечал, что квантовый туман начал проникать даже в научный язык:
«Любопытно, что Бор утверждает: электроны переходят с одной орбиты на другую, хотя довольно трудно представить, как именно это происходит. Согласно модели ученого, электрон никоим образом не может оказаться между орбитами, потому что в этом положении он непрерывно излучал бы энергию. Но каким-то образом электрон, находясь изначально на одном уровне энергии, соответствующем конкретной орбите, вдруг появляется на другой орбите с другим уровнем энергии. Только что я использовал слово „появиться". Бор пользуется словом „переходить". Некоторые ученые говорят, что электроны „перепрыгивают". Но на самом деле в нашем лексиконе нет подходящего слова для обозначения этого феномена, который выходит за пределы привычного человеческого опыта».
Читать дальше
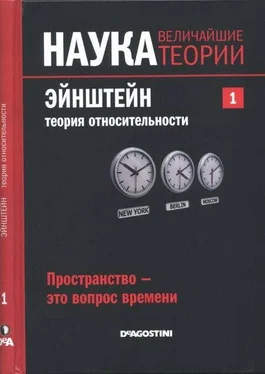


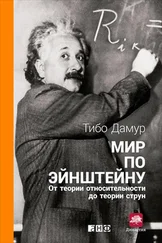

![Николь Валентайн - Теория относительности с точки зрения путешественника во времени [litres]](/books/385217/nikol-valentajn-teoriya-otnositelnosti-s-tochki-zr-thumb.webp)
![Коллектив авторов - Происхождение Вселенной. Как с помощью теории относительности Эйнштейна можно проникнуть в прошлое, понять настоящее и предвидеть будущее Вселенной [litres]](/books/414554/kollektiv-avtorov-proishozhdenie-vselennoj-kak-s-p-thumb.webp)