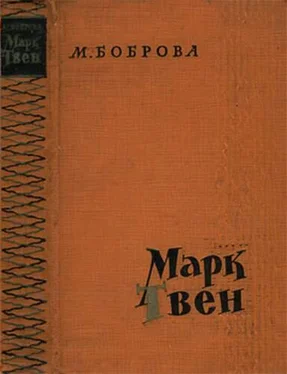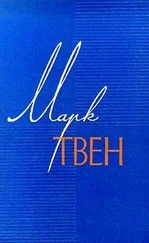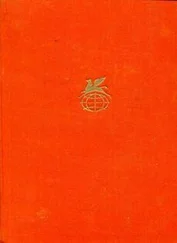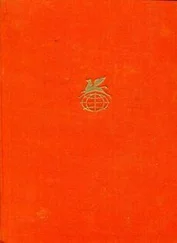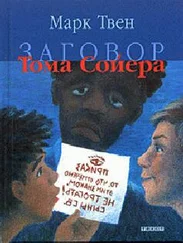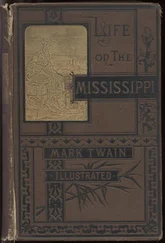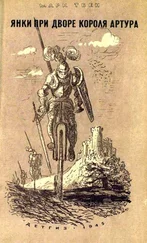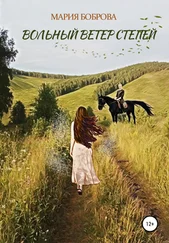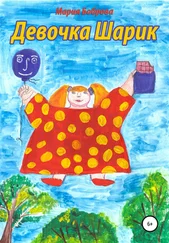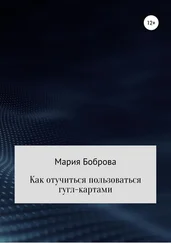Заняв позицию критика в романе «Мэгги — девушка с улицы» (1892), молодой Крейн (1871–1902), последователь Золя, натуралистически описал капиталистический город. Грязь, нищета нью-йоркских трущоб, описания условий каторжного труда работниц на страницах романа Крейна были вызовом защитникам «социальной гармонии». Ранний рассказ Крейна «На тему о нищете» справедливо называют «эпитафией к разбитым иллюзиям американской жизни».
В истории борьбы литературных направлений первый роман Стивна Крейна сыграл ту роль, что подчеркнул фальшиво оптимистическую манеру сторонников школы «нежной традиции». Однако сам Крейн, описывая нищету и бедность, даже не пытается дать социальные объяснения несчастьям народных масс. В его романе семья фабричной работницы по-звериному грубая. Но откуда эта грубость, озлобленность, почему девушки низших слоев американского общества становятся добычею улицы? На первый план Крейн выдвигает биологическую жизнь человека; биологическими причинами, среди которых наследственность играет первостепенную роль, он объясняет поведение людей, социальная же сторона жизни остается нераскрытой.
Крейн прошел очень короткий литературный путь. Но даже в рамках его десятилетней деятельности наметилось движение в сторону декадентской манеры изображения духовной жизни человека. Его роман «Алый знак доблести» (1895) посвящен анализу переживаний и поведения человека на поле боя. Это произведение, по мысли автора, должно было быть ударом по реакционному «историческому» роману 90-х годов, прославляющему агрессии США в прошлом. Крейн восстал против «героики» захватов чужих земель, но сам при этом занял неверные позиции. Он изображал войну как стихийное, стадно-биологическое проявление трусости или храбрости, вызванное случайными причинами (впечатлениями, настроениями, ощущениями); зачеркнул роль сознательного в поведении человека на поле сражения. Изощренный психологизм, импрессионистский анализ душевных переживаний героя романа, примат субъективного над объективным в оценке действительности — такова манера Крейна в «Алом знаке доблести».
Действие в романе происходит в период Гражданской войны. Но читатель об этом может догадаться только по тому, что войска противника называются «мятежниками», — автор начисто изъял из романа все, что могло бы говорить о причинах, целях войны против южан-рабовладельцев, о свободолюбивых идеях, которыми были воодушевлены северяне. Он даже избегает называть своего героя по имени, а лишь «юноша»: Крейна интересуют эмоции потрясенного человеческого естества, а не сознание Генри Флеминга, добровольно ушедшего на войну.
Весь роман заполняют описания проявлений животного начала у людей. Полк новобранцев — это «безумная толпа», «животные, брошенные в темную яму»; беснующиеся, «как капризные дети», офицеры, которые топчут копытами лошадей своих же солдат; полк охватывает «паническое бегство, напоминающее наводнение»… до появления противника. В герое романа автор подчеркивает злобность, животную тупость; наступление противника он воспринимает, как «затравленный зверь» — «глаза его горели ненавистью, зубы были оскалены по-собачьи»; стреляет в противника он в состоянии «злобного отчаяния, с тупым стеклянным взором» (лейтенант при этом называет его «дикой кошкой»; сам лейтенант все время дрожит, дико взвизгивает и чудовищно ругается).
Крейн детально описывает физические и душевные муки труса, сбежавшего с поля боя, покинувшего смертельно раненного товарища на пустынном Месте, патологические выверты его «натуры»: первый мертвец «тянул его остаться у тела и не отрываясь смотреть»; другой, «зеленый труп» в лесу, приставленный стоймя у дерева, казалось, «пронзительно кричал ему вслед угрозы».
Ни в одном американском романе того времени нет такого нагромождения ужасов войны, как у Крейна. Битва изображена как «колоссальная, страшная машина», которая «выбрасывает трупы», причем трупы описаны во всех позах и видах. Бессмысленность, жестокость битвы подчеркнута поведением раненых, находящихся в диком состоянии: они истерически хохочут, поют песни, у них опять-таки «безумные лица».
Давши трусу наконец «алый знак доблести» — то есть рану, — юношу хватил ружьем по голове другой обезумевший трус, солдат того же полка, сделав его под конец знаменосцем полка и «мужчиной», — автор называет на последней странице романа своего героя еще раз «животным, изнемогающим и опаленным болью и пламенем боя», и объявляет читателю, что «от красной болезни войны юноша излечился».
Читать дальше