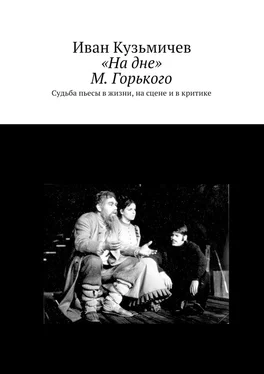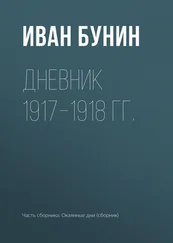Каковы же в самом деле результаты деятельности Луки? Неужели они так страшны, как их изображают иные критики?
Верно, что Лука никого не спас. Он не уберег от несчастья даже Пепла, с которым возился больше, чем с кем-либо. Но спасают герои. Лука же не герой, не социальный чудотворец, а обыкновенный беспаспортный бродяга. Он сделал то, что был в силах: помог людям ощутить себя людьми, удержаться в жизни. Ocтaльнoe уже зависело от них самих, от их силы воли и тех конкретных жизненных обстоятельств, в каких они оказались.
Самый главный результат, которым мог бы похвастаться Лука, заключается в общей гуманизации ночлежки, в создании к концу пьесы атмосферы человечности, которая дает реальную возможность людям и на «дне» оставаться людьми.
Если же говорить о частных судьбах, то стоит ли сетовать на то, что не стало Костылёва и нет Василисы? Ведь именно они создали в ночлежке нечеловеческие условия.
С их исчезновением снято важнейшее напряжение между верхним и нижним этажами «дна».
Конечно, жалко, что «нет ни Пепла, ни Наташи». Но Пепел собственными руками разорвал рабские узы, связывавшие его с Костылёвым. Наташа же, в каких бы условиях она ни оказалась, едва ли попадет в положение более худшее, нежели то, в каком находилась в доме. Костылёвых. Еще меньше потерял Медведев, сменив полицейский мундир на кофту Квашни. На «дне» у него есть, по крайней мере, теоретическая возможность стать человеком, чего не было, когда он служил полицейским.
К слову, Лука никогда не утешал Медведева. Он издевался над ним, когда расхваливал его геройскую «видимость» и называл «ундером». И уж совсем нет никаких оснований утверждать, что якобы Квашня, эта хозяйка, как её называет Сатин, «стоит перед разрушенными надеждами». Квашня, как мы пытались показать, пала, но не заметила своего падения. Преждевременно также утверждение Ю. Юзовского, что якобы Татарину без руки • «суждено погибнуть, как Клещу без его инструментов».
Клещ утратил инструменты, но обрел нечто более значительное — доброту к людям. Что же касается Татарина, то и он смягчился, а руку надеется еще вылечить («Погодим… может — не надо резать…»). Алёшка, говорят нам, «запутывается окончательно», но и это утверждение не совсем верно. Алёшка запутался еще до прихода Луки, когда метался между сапожной мастерской хозяина и ночлежкой, но к концу пьесы он прибился «к одному берегу» и обрел ласку и отеческую заботу Бубнова и Клеща. Что же касается его самочувствия, то оно вполне оптимистично. На вопрос Квашни: «И что ты за человек, Алёшка?» — он отвечает в свойственном ему духе: «Самый первый сорт человек!» Остаются Настя и Актёр. Но о них следует сказать особо.
Выше уже говорилось, что между третьим и четвертым актами прошел достаточно большой срок — от ранней весны до поздней холодной и слякотной осени. Правда, К. С. Станиславский в своем режиссерском варианте пьесы этот срок сжимает до двух-трех недель и действие последнего акта переносит на весну. В его экземпляре значится: «Ночь. Теплая, весенняя, лунная. Душно, даже наружную дверь распахнуло. Тишина и в ночлежке и наруже». Мысль режиссера ясна: свет «нового дня» приблизился. Однако авторское решение нам представляется более обоснованным.
Дело в том, что пока длится третий антракт, с героями ночлежки происходит много больших и малых перемен, требующих значительного времени. Наташа вышла из больницы и пропала; Бубнов скопил кое-какой капитал и почти весь пропил; Татарину изувечило руку; Квашня обзавелась сожителем Медведевым, которого сняли со службы, и он опустился на «дно»… К этому времени Клещ окончательно расстался с надеждой выбраться из ямы, боль перегорела, он успокоился («все люди… ничего!»). Но особенно крутой духовный перелом произошел у Насти и Актёра.
Пьеса «На дне» полна контрастов, резкого столкновения доброго и злого, низкого и высокого, материального и духовного, комического и трагического и т. д. и т. п. Самая что ни на есть натуралистическая деталь здесь соседствует с символикой или сама переходит в символ. Прием контраста обретает особую значимость в заключительном акте, когда при его посредстве «дно» как бы взрывается изнутри, доказывая неправоту тех, кто утверждает, что якобы ночлежники в себе не имеют силы, что их можно разбудить только с помощью какого-нибудь внешнего толчка.
После пережитых героями потрясений в третьем акте, в ночлежке наступает некое умиротворение, некое «всеобщее братание». Бубнов, тот самый, который на протяжении всей пьесы недовольно ворчал по всякому поводу, вдруг говорит: «Эх, братцы! Много ли человеку надо? Вот я — выпил и — рад!» Он предлагает Кривому Зобу затянуть «любимую». Зоб соглашается, выражает готовность подыграть Алёшка, а Сатин говорит: «Послушаем!» Но песня и пляска, то полное раскрепощение духа и тела, то хмельное ощущение счастливого состояния свободы, которое предвкушали ночлежники в ночном разгуле, оборвались самым неожиданным образом — самоубийством Актёра. На сообщение Барона о том, что Актёр удавился, у Сатина вырвалась негромкая, непроизвольная, но многозначительная реплика: «Эх… испортил песню… дур-рак!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу