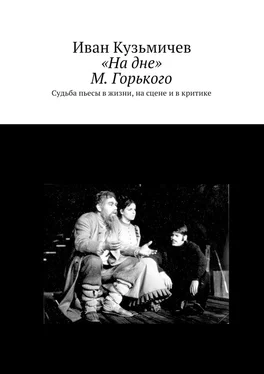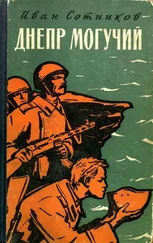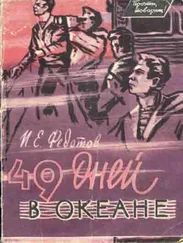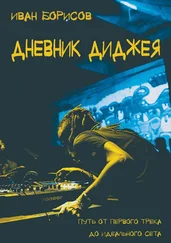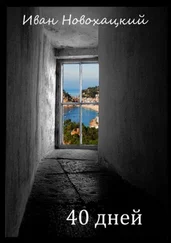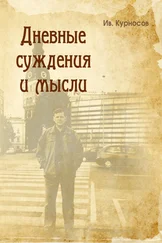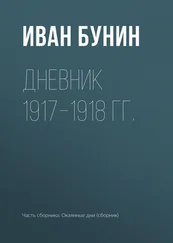Связь между Бубновым и Лукой — сложнее и глубже. Эти два персонажа пьесы представляют собою звенья одной и той же цепи. Если Бубнов олицетворяет собою прозу факта, то Лука — его поэзию. Если один закоснел в своей неподвижности, то другой не сидит на месте, всегда находится в бегах. Убежал он и на этот раз, только не так ловко, как того можно было бы ожидать от такого опытного странника, каким казался Лука. Он скрылся, чтобы не встретиться с полицией. За убийство в драке арестован один Васька Пепел. Никто из ночлежников, включая и Сатина, не пострадал. Вполне возможно, все обошлось бы благополучно и с Лукой. Но Лука не выдержал, ушел.
У Луки есть не мнимая, а действительная вина, не уголовная, а нравственная — за состояние ночлежки и ночлежников. От этой вины, от суда совести Лука не может скрыться, куда бы он ни подался — «в хохлы» или в любое иное место. И он от нее не ушел: IV, заключительный акт, между прочим, есть суд над Лукой.
Посмотрим, что же это за суд и насколько он справедлив и милосерден.
«На дне» — первая пьеса, задуманная Горьким. Наиболее ранние упоминания о ней относятся к началу 1900 года, а приступил он к работе над ней (под названием «Без солнца») в конце того же года. «Плету потихоньку четырехэтажный драматический чулок со стихами, но не в стихах», — писал он К. С. Станиславскому в декабре 1900 г. из Н. Новгорода. В другом письме тому же адресату: «О пьесе — не спрашивайте. Пока я её не напишу до точки, её все равно что нет. Мне очень хочется написать хорошо, хочется написать с радостью. Вам всем — Вашему театру — мало дано радости. Мне хочется солнышка пустить на сцену, веселого солнышка, русского эдакого, — не очень яркого, но любящего всё, всё обнимающего. Эх, кабы удалось!» (28, 147—148).
Затем упоминания о пьесе возобновляются почти через год, после окончания «Мещан». «Вчера у меня был Горький, — сообщал А. П. Чехов О. Л. Книппер 30 ноября 1901 года. — Он здоров, собирается написать еще одну пьесу». Речь шла о «На дне». К лету 1902 года пьеса была готова. В июле её получил и прочитал Чехов. Он писал автору:
«Она нова и несомненно хороша. Второй акт очень. хорош, это самый лучший, сильный, и я, когда читал его, особенно конец, то чуть не подпрыгивал от удовольствия».
Но Чехову не очень понравился четвертый акт.
«Вы увели самых интересных действующих лиц (кроме Актёра) и глядите теперь, как бы чего-нибудь не вышло из этого. Этот акт может показаться скучным и ненужным, особенно если с уходом более сильных и интересных актеров останутся одни только средние. Смерть Актёра ужасна: вы точно в ухо даете зрителю, ни с того, ни с сего, не подготовив его».
Несколько разочаровал финальный акт и К. С. Станиславского. Разочарование было главным образом обусловлено сатинскими речами о человеке, о том, что «это звучит гордо» и т. и. Ник. Эфрос предполагал, что тут сказалось «только личное впечатление и суждение Станиславского, которому весь образ Сатина показался — (если не ошибаюсь, и по сей день кажется) и неотчетливым, и надуманным, сочиненным, театральным, вроде Дон Сезара де Базана, а слова о Наполеоне, Магомете и т. п. — невразумительными, путающими основную мысль произведения» 182 182 Эфрос Н. «На дне». Пьеса М. Горького…, с. 45.
.
Горький и сам жаловался Пятницкому, когда работал над пьесой:
«Скоро кончу пьесу. Выходит довольно плохо. Самое трудное —4-й акт, черт бы его драл!» (28, 253).
Когда же Горький получил письмо Чехова с отзывом о пьесе, то в августе 1902 года писал Чехову из Арзамаса:
«За четвертый акт — не боюсь. И — ничего не боюсь, вот как! В отчаянность пришел» (28, 268).
Первая же постановка пьесы в Московском Художественном театре не подтвердила опасений Чехова и Станиславского насчет финального акта. Не вставала эта проблема и позднее, но вот относительно принципиальной трактовки этого акта разногласия продолжаются до сих пор.
Еще Амфитеатров выражал неудовольствие последней репликой Сатина, считал, что это неожиданное «турецкое зверство» Сатина портит «песню» самому Горькому и не соответствует настроению минуты и характеру героя.
К. С. Станиславский тоже не склонен был в заключительной части пьесы сгущать краски. Он в своем режиссерском экземпляре пьесы предложил следующую интерпретацию концовки:
«Сатин (негромко). Эх… испортил песню… дур-рак!»
«Не говорит ли Сатин последнее слово «дур-рак!» — с известным сожалением? Теперь, когда он немного понял жизнь?
Он встает, чтобы идти первый, захватывает с собой верхнее платье. Думаю, что он идет туда не для того, чтобы в качестве шулера добыть кусок веревки повешенного, а с иной целью — ему стало жалко несчастного».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу