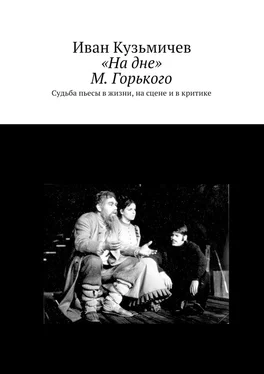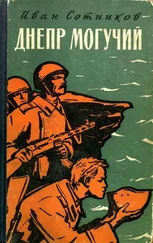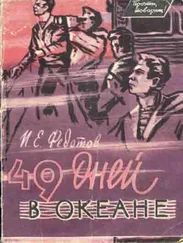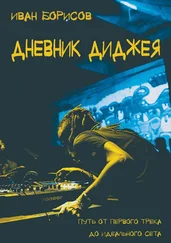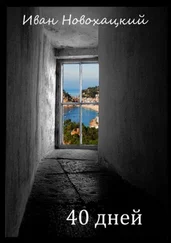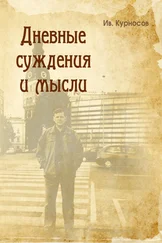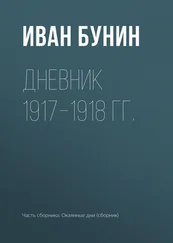Горький не любил называть свои драмы жанровым именем, а обходился либо вовсе без всяких жанровых обозначений, либо весьма скромно помечал: «Картины, четыре акта», «Сцены в уездном городе в четырех действиях», «Сцены». Но это ровно ничего не значит. В своих пьесах Горький был куда «традиционнее», чем принято думать. В отличие от «Ткачей» в «На дне» не «потерян» ни один герой, не забыта, не оборвана ни одна сюжетная линия. Каждое действующее лицо проходит весь свой сюжетный путь от начала до конца. Соблюдено здесь и единство действия, если его понимать по Белинскому, в смысле единства основной идеи. Что же касается единства места, то оно соблюдено наидобросовестнейшим образом. Место действия пьесы — «дно». Действие первого, второго и четвертого акта происходит в одном и том же месте — в ночлежке Костылёва, в подвале, похожем на пещеру, да и место действия третьего акта — недалеко, за дверью, во дворе той же ночлежки. Можно было бы сказать и о единстве времени, которое здесь протекает наиестественнейшим образом. Лессингу незачем было переворачиваться в гробу: во всех отношениях «На дне» — самая что ни на есть настоящая драма.
Немецкая критика того времени впадала в явное противоречие, когда возносила до небес содержание горьковской пьесы и вместе с тем ни в грош не ставила её форму. Как бы ни было значительно содержание, оно не раскроется, если не обретет более или менее соответствующую форму. Корни означенного противоречия надобно искать не в пьесе «На дне», а либо в постановке, либо в критике, а точнее — в самой немецкой действительности.
Какова же была та социально-психологическая почва в Германии, на которой из горьковской пьесы «На дне» выросла «Ночлежка»?
Если говорить коротко, то в 80—90-е годы под влиянием растущего революционного движения пролетариата в общественной жизни Германии происходили существенные изменения. В области искусства это наиболее ярко и впечатляюще выразилось в борьбе за «новую сцену». Борьба носила острый характер и завершилась победой натуралистического театра. Натуралистический театр к концу прошлого века стал властителем дум на немецкой сцене. Он ввел на сцену нищету и сделал её, говоря словами Генриха Манна, «главным действующим лицом».
Немецкие зрители, воспитанные на постановках Отто Брама, увидели в горьковской пьесе образец натуралистической драмы, ту самую нищету, с которой они уже свыклись по своим спектаклям, только доведенную до своей крайней степени, и не у себя, не дома, а в далекой России. Уже одного этого было достаточно, чтобы пробудить повышенный интерес у немецкой публики к новому горьковскому произведению. К тому же, с творчеством молодого Горького в Германии были хорошо знакомы.
Но пьеса Горького «попала в руки», не Отто Браму, а его ученикам, которые искали на сцене каких-то новых путей. Их недовольство «Немецким театром», из которого они ушли, объяснялось неудовлетворенностью натуралистической сценой. Натуралисты не видели выхода из создавшегося положения и не приоткрывали занавеса в будущее. Этот выход для Отто Брама мог бы быть найден на путях реалистического театра, по которым пошел его русский коллега К. С. Станиславский и руководимый им Московский Художественный театр. Но Отто Брам так и не нашел в себе силы преодолеть самого себя, отвергнуть открытие своей молодости. Но не пошли по пути Станиславского и ученики Отто Брама. Взяв пьесу «На дне» у Художественного театра, они придали ей не реалистический, а символический характер и приподняли прежде всего её общечеловеческое, общегуманистическое содержание. Они увидели выход для обитателей «дна» в следовании по пути добра и любви и этой мыслью как бы осветили изнутри всю костылёвскую ночлежку.
В той интерпретации, какую пьесе дали в берлинском Малом театре, многое на сцене, в том числе и жалкие лохмотья нищеты, как бы смягчилось, облагородилось, обрело обобщенный смысл. «Когда поднимался занавес, — писала „Vossische Zeitung“, — подвал со вспыхивающими огоньками фонаря производил впечатление преисподней, в которой мелькают фигуры, напоминающие привидения». По словам рецензента этой газеты, М. Горький с помощью «единого луча света» преобразовал «подвал в мировую картину, а лохмотья и заплаты нищенского одеяния в королевскую мантию человечности» 107 107 Иностранная критика о Горьком…, с. 146.
. Очевидно, что эти слова относятся не столько к горьковской пьесе, сколько к интерпретации этой пьесы немецким театром.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу