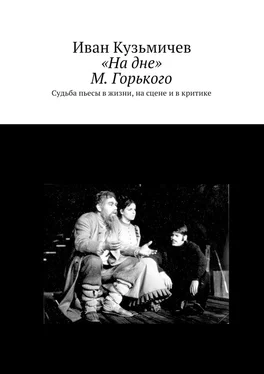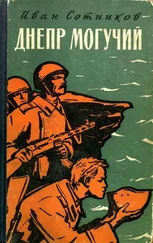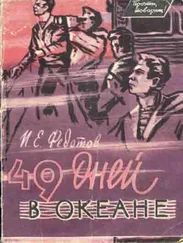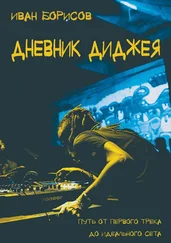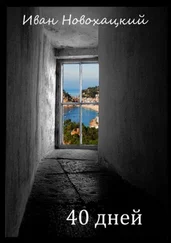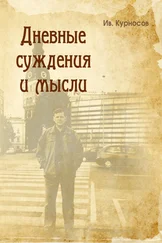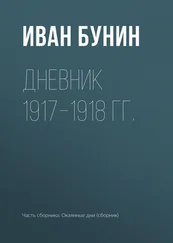Из сказанного можно заключить, что Горький относился к Гауптману достаточно критически. Больше того, в той же статье он заметил, что «драма, в узком смысле слова, разыгрывается между Лотом и Еленой», остальные действующие лица пьесы «просто погибают от алкоголя, обжорства и разврата».
Замечание Горького весьма точно характеризует анализируемую им пьесу Гауптмана. Из двух десятков действующих лиц в драматический узел, и в самом деле, вовлечены всего лишь два героя — Елена и Лот. Все же другие персонажи служат как бы бытовым и социальным фоном коллизии и вводятся в действие и выводятся из него совершенно свободно. Еще ярче, еще нагляднее проявляется эта особенность гауптмановской драматургии в «Ткачах». В этой пьесе только старому Баумерту да отчасти Беккеру посчастливилось участвовать на протяжении всего действия. Дважды, в первом и четвертом актах, появляются директор нанковой фабрики Дрейсигер и его экспедитор Пфейфер. Все же другие герои, а их больше сорока, не считая несметного количество безымянных молодых и старых ткачей и ткачих, действуют в пьесе в одном лишь акте. В каждом акте, а их в пьесе — пять, меняется место действия.
Со стороны Гауптмана это был действительно смелый шаг, разрушавший все академические представления о драматическом роде искусства. Другое дело — насколько это новаторство шло на пользу произведениям самого Гауптмана и драматургии в целом. Самое же любопытное заключалось в том, что все то композиционное новаторство, которое мы видим в «Ткачах», немецкие критики, не все, но многие, усмотрели в горьковской «Ночлежке». Одни её за это одобряли, другие подвергали резкому осуждению и, признавая общественное значение этой пьесы, в то же время ни во что не ставили её как явление художественное, как драму.
«Нет более плохой драмы, более невозможного литератypнoro произведения!» — восклицала упомянутая выше литературная газета «Der Tag».
«Горький не драматург; он был и остается эпическим поэтом», — писала «Neueste Nachrichten» (Берлин), а католическая «Germania» заявляла: «С точки зрения искусства и эстетики это произведение следовало бы отодвинуть на задний план. Однако так судить нельзя…»
«Интереснейший современный театр в Берлине поставил на сцене, быть может, интереснейшую драму этого сезона и, наверное, самую удивительную во всей драматической литературе, — утверждала другая литературная газета „Tagliche Rundschau“ и тут же восклицала: — Но разве это драма? Ни в коем случае! Это картинная галерея ужасных образов, извлекаемых сильною рукою художника со дна человечества и выставляемых в ярком дневном свете… Это документы позора нашей эпохи, пятно на нашей культуре…»
Влиятельная финансовая газета «Berlin Bòrsen Zeit» заметила по этому поводу, что Лессинг «должен был, по крайней мере, раз двенадцать перевернуться в своем гробу». Но она забыла добавить, что великому критику, наверное, уже приходилось переворачиваться — и куда больше, чем двенадцать раз, когда в том же Берлине ставили «Ткачей».
Объективности ради отметим, что немецкая критика сильно преувеличила зависимость формы горьковской «Ночлежки» от гауптмановской поэтики. Она ошибалась, когда утверждала, что будто бы наш драматург позаимствовал у Гауптмана «и построение и постепенное выдвигание все новых личностей». За исключением двух крючников — Кривого Зоба и Татарина, которые появляются в пьесе в самом начале второго акта, все семнадцать действующих лиц (а не сорок!) введены в пьесу в первом же акте. Правда, с выходом на сцену немножко замешкался Лука, но у него на это были более чем уважительные причины, ничуть не противоречащие самым строгим правилам драматического искусства.
Гауптман, как мы уже отмечали, любил в своих пьесах менять и место действия и самих действующих лиц. Так, в тех же «Ткачах» действие пьесы из конторы фабриканта Дрейсигера в Петерсвальдау (первый акт) переносится в Эйленские горы, в лачугу Вильгельма Анзорге (второй акт), потом — в корчму (третий акт), а затем — в роскошную гостиную того же фабриканта (четвертый акт) и, наконец, завершается в Ланген-Билау, в комнатушке старого ткача Хильзе. Единства места и действия как таковых нет. Действие пьесы как бы распадается на пять отдельных частей со своим кругом лиц, положений, проблем. Пьеса. объединена не столько сквозным драматическим действием, сколько событиями. Перед нами не столько драма в том смысле, в каком учили её понимать Аристотель и Лессинг, Гегель и Белинский, сколько драматизированное повествование о жизни силезских ткачей в сороковые годы прошлого столетия.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу