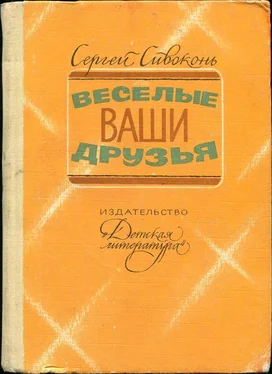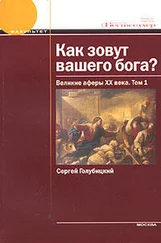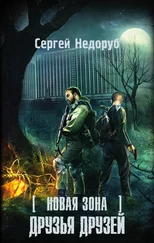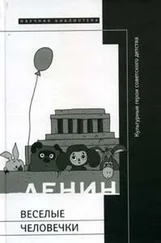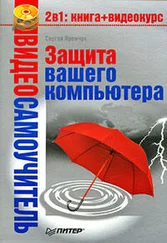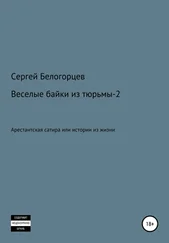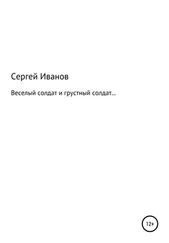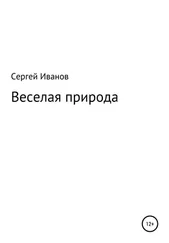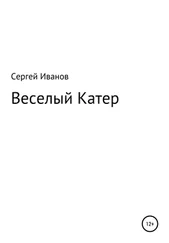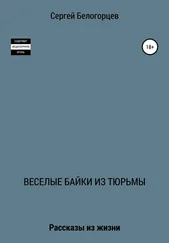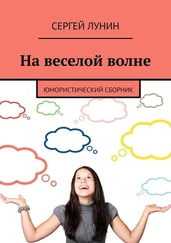Особенно богатый набор смешных (и удачно примененных!) имен в «Незнайке на Луне»: богачи-скупердяи Скуперфильд, Жадинг, Дрянинг, Скрягинс, миллиардер Спрутс, судья Вригль, мошенник Жулио, города Давилон, Грабенберг, Брехенвиль, Сан-Комарик… Любопытно, что почти все они пародируют какие-то реальные земные названия.
Это заставляет вспомнить швамбранские имена — хотя у Носова шире диапазон выбора.
Уже само это слово — «коротышки» — не раз создает комические ситуации.
Но кого же разумеет автор под коротышками? Обычных людей, только поменьше ростом? Не всегда. Детей, может быть? Первая часть трилогии вроде бы подтверждает такое предположение. Ну кто, в самом деле, тот же Незнайка, если не типичный озорник-мальчишка? А Гунька? А Авоська? А Торопыжка? А Ворчун? А Растеряйка? А Кнопочка?..
Но с другой стороны, доктор Пилюлькин ребенок разве? А астроном Стекляшкин? А всезнающий и всеумеющий Знайка? А поэт Цветик? А поэтесса Самоцветик? А писатель Смекайло? Не детские, совсем не детские у них поступки…
То же примерно с малышами и малышками. Ну что бы прямо не сказать: мальчики и девочки. Так нет же: автор делает вид, что у малышей и малышек просто разные вкусы и разные привычки. «Малыши всегда ходили, — сообщает он, — либо в длинных брюках навыпуск, либо в коротеньких штанишках на помочах, а малышки любили носить платьица из пестренькой, яркой материи. Малыши не любили возиться со своими прическами, и поэтому волосы у них были короткие, а у малышек волосы были длинные, чуть не до пояса».
Та же, в общем, картина сохраняется и во второй части трилогии: одних коротышек можно принять за людей взрослых, других — за детей. Ну а в третьей, «лунной» части никого из детей уже вовсе не остается, даже сам Незнайка, прибыв на Луну, выглядит вполне взрослым. Хотя по беспримерной наивности своей все же напоминает обыкновенного ребенка…
Любимые герои Носова осваивают мир наивным, «незнайским» путем — вот еще один (может быть, важнейший!) исток носовского смеха.
Явная или притворная наивность героя может проявиться в его речи (комизм слова), в его действиях (комизм действия), в разных недоразумениях, какие с ним случаются (комизм положения), наконец, в его характере или столкновении с другими героями (комизм характеров). Все эти типы комизма разнообразно представлены в творчестве Носова. Представлен у него, разумеется, и комизм возраста.
Комизм возраста, как и комизм характеров, особенно ярко проявляется в тех произведениях Носова, где выступают своего рода комические дуэты: Витя Малеев и Костя Шишкин, «бесфамильный» рассказчик Коля из рассказов «Мишкина каша», «Телефон», «Огородники», «Елка» и «Дружок», а также из повести «Веселая семейка» и его друг Мишка Козлов.
Любопытно, что в этих «дуэтах» ведущую роль играют герои озорного склада — Костя Шишкин и Мишка Козлов, а не их более «здравые» и рассудительные партнеры.
Почему?
Прежде всего потому, что и воспитывать, и тем более смешить читателя легче на примере характера «трудного», беспокойного: его ошибки и промахи виднее, контрастнее. А для юмориста это особенно важно.
Но есть и другая причина.
Дело в том, что если говорить о типичных чертах возраста, к какому принадлежат эти герои (педагоги и психологи назовут его младшим школьным возрастом), то более типичными окажутся Мишка и Костя, потому что в этом возрасте куда чаще встречаются озорники и непоседы, отчаянные фантазеры и выдумщики, нежели благовоспитанные пай-мальчики.
Большие лошади и маленькие ослы
Неисчерпаемый родник комизма — детская фантазия. В книгах Носова она занимает особое место: среди его героев великое множество фантазеров. Вот раздумья главного героя повести «Дневник Коли Синицына». Ложась спать, Коля вспомнил, что надо подумать о работе на лето для своего пионерского отряда. «…Я лег в постель и стал думать. Но вместо того чтобы думать о работе, я стал почему-то размышлять о морях и океанах: о том, какие в морях водятся киты и акулы; почему киты такие большие, и что было бы, если бы киты водились на суше и ходили по улицам, и где бы мы жили, если бы какой-нибудь кит разрушил наш дом.
Тут я заметил, что думаю не о том, и сейчас же забыл, о чем надо думать, и стал почему-то думать о лошадях и ослах: почему лошади большие, а ослы маленькие, и что, может быть, лошади — это то же, что и ослы, только большие; почему у лошадей и ослов по четыре ноги, а у людей только по две, и что было бы, если бы у человека было четыре ноги, как у осла, — был бы он тогда человеком или тогда он был бы уже ослом…»
Читать дальше