Лирический текст (не важно, в стихах или прозе) не только удерживает авторскую эмоцию, погружает во внутренний мир «я», но и подходит к границам «я», открывая их проницаемость и подвижность. Функции лиризма имеют онтологический статус, позволяющий почувствовать взаимопроницаемость универсального и окказионального, сингулярного и множественного, моментального и вечного, обобщенного и конкретного, именно поэтому осмысление лирической природы художественного текста стало превращаться в самостоятельный теоретический раздел литературоведения. Способность выразить ощущение проницаемости границ между «я» и миром, по сути, может быть сочтена главным свойством художественной материи, поэтому четкое разделение сюжета и метасюжета неосуществимо. Событийный сюжет всегда выходит из собственной замкнутости в метаобласти: он непрерывно конструируется и саморефлексируется внутри текста. Без динамики и саморефлексии невозможно восприятие предмета или события, а тем более невозможно их художественное, лирическое созерцание. Метасюжет и сюжет сливаются воедино в процессе художественной рефлексии, но в то же время, совпадая, расходятся, как сознание и универсум, которые тоже не могут полностью отождествиться, оставаясь самостоятельными хотя бы потому, что «точечность» «я», его ограниченность, привязанность к «здесь и сейчас» приходит в противоречие с протяженностью и непостижимостью пространства [9] Полярность определяет, по мнению О. В. Сливицкой, «космическое мироощущение» Бунина: «Подобно тому, как атом, невообразимо малая часть солнечной системы, повторяет в себе всю ее структуру, так и человек – и противостоит Космосу, и включает его в себя. Из этого следуют два противоположных, но лишь внешне противоречивых вывода. // Один – безысходно трагический. Перед лицом непостижимых космических сил (природы, эроса и смерти) личность ничтожна, человек незащищен и одинок, а счастье его хрупко и иллюзорно 〈…〉 // Второй вывод – торжествующе оптимистичен. Космос не только противостоит человеку, но и входит в него как огромное целое, наделяя его безмерной силой жизненности» ( Сливицкая О. В. «Повышенное чувство жизни»: Мир Ивана Бунина. М.: РГГУ, 2004. С. 52–53).
. Художественная, лирическая эмоция гармонизирует разнородность «я» и мира, отчего все неохватное пространство универсума приближается к «я», вмещается в него, одновременно повышаясь в своей ценности и недоступности.
Исходя из такого рода представлений о лирике, мы описывали прозаические миниатюры Бунина, нередко прибегая к метафорическим определениям лирического сюжета и лирического текста, – например, к формуле, приложенной Ю. Н. Чумаковым к поэзии Тютчева – «точка, распространяющаяся на все». Эта формула несет в себе мысль о центробежности и центростремительности лирического текста и презумпцию условности границ между внутренним и внешним [10] Эта формула развертывает в научный дискурс поэтическую строчку Тютчева «Все во мне и я во всем». «В одном стихотворении, – пишет Ю. Н. Чумаков, – обнаруживаются главные черты тютчевского мирообраза, которые многократно преображаются и мультиплицируются в корпусе его лирики: автономность, сжатость, особое качество безличности, связанное с остаточной недифференцированностью авторского лица от универсума» ( Чумаков Ю. Н. Пушкин. Тютчев: Опыт имманентных рассмотрений. М.: Языки славянской культуры, 2008. С. 359).
; исходя из нее, можно утверждать, что лирические формы характеризуются ускользающей границей между автором внутри и автором вне текста. К пространственным метафорам с акцентами на заполненности или пустоте прибегают многие теоретики. Вот, к примеру, одно из рассужений П. Де Мана о Рильке:
Рильке… называет… утрату референциальности амбивалентным термином «внутренний мир» (innen entstehen, Weltinnenraum и т. д.), который, в таком случае, обозначает не самоприсутствие сознания, но неизбежное отсутствие надежного референта. Он обозначает неспособность языка поэзии присвоить что-либо, будь то сознание, объект или синтез того и другого. С точки зрения образного языка, эта утрата субстанции оказывается освобождением. Она приводит в действие игру риторических обращений и предоставляет им свободу играть, не воздвигая референциальные препятствия значения [11] Ман П. де. Аллегория чтения: Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1999. С. 61. Это же пространственное определение из «Сонетов к Орфею» Рильке у Ю. Н. Чумакова применяется для описания композиции пушкинского романа «Евгений Онегин»: «“Евгений Онегин” – поэтически оформленная картина действительности авторского сознания, которая в своем существовании in continuo вбирает в себя и конструирует из себя внешнюю сторону универсума. У Рильке это называется Weltinnenraum, внутреннее пространство мира или, более свободно, душа, вмещающая мир. На этом основании и возводится композиция “Евгения Онегина”» ( Чумаков Ю. Поэтика «Евгения Онегина» // Australian Slavonic and East European Studies (Formerly Melbourne Slavonic Studies). Vol. 13. 1999. № 1. P. 37).
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
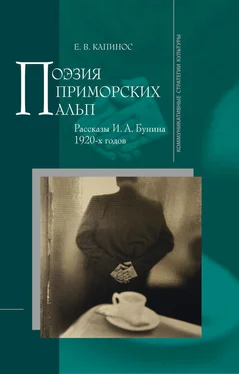




![Елена Коронатова - Бабье лето [повесть и рассказы]](/books/192117/elena-koronatova-babe-leto-povest-i-rasskazy-thumb.webp)






