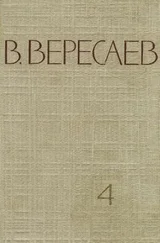В проявлениях своих героев Гоголь отмечает такие тонкости выражения лица и интонаций, которые мало бы кто подметил, а когда они подмечены, то кажется: как же было возможно их не подметить?..
Красавцы и красавицы Гоголя все говорят на один манер, в одинаковом лирически-приподнятом тоне. У каждого из комических героев Гоголя свой особенный, ему одному свойственный язык. Профессор И. Е. Мандельштам в своей книге «О характере Гоголевского стиля» настолько тщательно разработал этот вопрос, что нам остается только привести его наблюдения.
С поразительною рельефностью выступает в языке Гоголя целый мир живых фигур, освещенных ярким светом, — отмечает Мандельштам. — Всякая фраза, произнесенная всяким из его лиц, показывает нам, кроме идеи, во имя которой художник создал их, сумму свойств, темперамент, — с такою выразительностью, до которой не достигали крупнейшие юмористы. Мы как будто слышим голос их, видим всякие их движения. По некоторым фразам можно угадать всего человека.
Один (Хлестаков) произносит ряд предложений без связи, без смысла. Слова не соединяются даже грамматически. Речь его переносит и его, и его слушателей в среду детей, что-то лепечущих, что-то болтающих; иногда мысль как будто просится наружу, но в голове пусто, хоть шаром покати. Весь запас слов его, в которых может смысл отыскаться, исчерпывается какими-нибудь пятью-десятью словами: он умеет только ругнуть, попросить поиграть в карты, кутнуть, обмануть, солгать, — инстинктивно, непроизвольно, бессознательно.
Перед нами другой (Собакевич). Речь его определяет характер совершенно исключительным образом, при помощи подбора двух-трех слов, применяемых ко всем людям без исключения: «вор», «разбойник», «мошенник», «есть один порядочный человек, и тот, если сказать правду, свинья». У него язык поворачивается медленно, уверенно, тяжело, звуки такие, которые не допускают обыкновенного темпа речи, а требуют замедленного: «Гога и Магога», «плечища», «машинища», «а в плечищах силища», — такие слова могут произноситься звук за звуком, ни один не пропадет в тяжеловесности своей. Ни слова лишнего. Все коротко и ясно.
Иной опять стиль у Манилова. У этого господина приторно-слащавый язык, свидетельствующий об отсутствии всякой мысли. У него «магнетизм души», который он «хотел бы доказать», «храм уединенного размышления», «именины сердца»... «Конечно, другое дело, если бы соседство было хорошее, если бы, например, такой человек, с которым бы, в некотором роде, можно бы поговорить о любезности, следить какую-нибудь этакую науку, чтобы этак расшевелило душу, дало бы, так сказать, паренье этакое...» Что такое совершил Манилов, — незачем знать. Он и без того как на ладони.
Ноздреву говорить некогда, — он вечно действует, а потому и речь его отличается быстротою, разорванностью, отрывочностью; он одним словом хочет выложить целые истории, а в рассказах перескакивает громадные пространства. Мы напрасно будем искать промежуточной дороги и задавать себе вопрос, каким образом переходы мысли совершаются. Из-за слов видны движения; быстрая смена впечатлений выражается быстрыми переходами мысли. Реплики у него всегда мгновенные, вспышками, необдуманно, импульсами.
Коробочка опять ведет свою речь. Это речь тупицы, которая твердит одно и то же, потому что нет доступа никакой мысли, она не может понять того, что ей толкуют. Это язык непроходимого тупоумия.
...Гоголь... до конца жизни ощущал... нетвердость свою в русской грамоте. В 1842 году школьный товарищ Гоголя Н. Я. Прокопович, учитель словесности и очень незначительный поэт, взял на себя присмотр за печатавшимся в Петербурге собранием сочинений Гоголя. И вот автор «Мертвых душ» пишет учителю словесности: «При корректуре прошу тебя действовать как можно самоуправнее и полновластнее... Пожалуйста, поправь везде с такою же свободою, как ты переправляешь тетради своих учеников. Если где часто повторение одного и того же оборота периодов, дай им другой, и никак не сомневайся, будет ли хорошо, — все будет хорошо». Просьбу эту Гоголь мотивирует тем, что будто бы переписчик наделал в рукописи много ошибок. А в 1846 г. Гоголь писал Плетневу: «Мне доставалось трудно все то, что достается легко природному писателю. Я до сих пор, как ни бьюсь, не могу обработать слог и язык свой, — первые, необходимые орудия всякого писателя. Они у меня до сих пор в таком неряшестве, как ни у кого даже из дурных писателей, так что надо мной имеет право посмеяться едва начинающий школьник. Все мною написанное замечательно только в психологическом значении, но оно никак не может быть образцом словесности, и тот наставник постулит неосторожно, кто посоветует своим ученикам учиться у меня искусству писать или, подобно мне, живописать природу».
Читать дальше