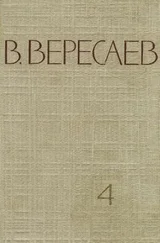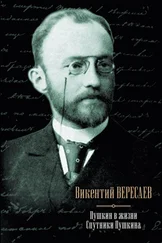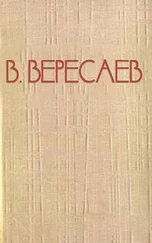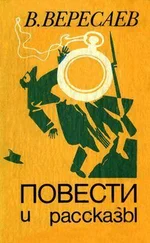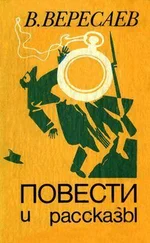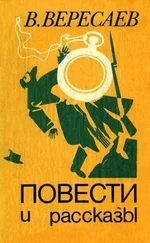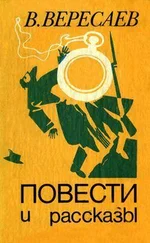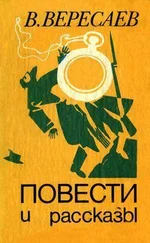Потому-то Гоголь мог, сколько угодно, выражать в «Выбранных местах из переписки с друзьями» самые мракобесные, строго охранительные мнения. Имя его, тем не менее, очутилось на знамени всех, стремившихся к беспощадному разрушению начал, защищаемых Гоголем. Гоголя восторженно приветствовал Белинский. Герцен находил, что «никто выше, чем Гоголь, не приподнял позорного столба, к которому он пригвоздил русскую жизнь». Чернышевский заявлял, что давно уже не было в мире писателя, который был бы тек важен для своего народа, как Гоголь для России, — и именно по плодотворности своего «критического» направления.
Как относился сам Гоголь к этой разрушительной силе своего смеха?
В апреле 1836 года на петербургской сцене впервые был поставлен «Ревизор». Пьеса имела огромный успех. Одни восторженно ее хвалили, другие яростно ругали: доказывали, что пьеса — клевета на чиновничество, что таких бессовестных и наглых мошенников вообще не существует на свете, что следовало бы комедию запретить, что она подрывает основы общества. Гоголь был очень смущен и огорчен таким отношением к его пьесе. Он писал Погодину: «Что против меня уже решительно восстали все сословия, я не смущаюсь этим, но как-то тягостно, грустно, когда видишь против себя несправедливо восстановленных своих же соотечественников, которых от души любишь, когда видишь, как ложно, в каком неверном виде ими все принимается. Частное принимать за общее, случай за правило! Что сказано верно и живо, то уже кажется пасквилем. Выведи на сцену двух-трех плутов, — тысяча честных людей сердится, говорит: «Мы не плуты».
Даже благонамереннейший и консервативнейший Погодин был изумлен таким отношением Гоголя к посыпавшимся на него нападкам и писал ему: «Ты сердишься на толки. Ну, как тебе, братец, не стыдно! Ведь ты сам делаешься комическим лицом. Представь себе, автор хочет укусить людей не в бровь, а прямо в глаз. Он попадает в цель. Люди щурятся, отворачиваются, бранятся и, разумеется, кричат: «Да нас таких нет!» Так ты должен бы радоваться, ибо видишь, что достиг цели. Каких доказательств яснее истины в комедии! А ты сердишься! Ну, не смешон ли ты?»
Но Гоголь все свое:
«Грустно, когда видишь, в каком еще жалком состоянии находится у нас писатель, — пишет он в ответном письме к Погодину. — Все против него, и нет никакой сколько-нибудь равносильной стороны за него. «Он зажигатель! Он бунтовщик!» И кто же говорит? Это говорят мне люди государственные, люди выслужившиеся. Выведены на сцену плуты, и все в ожесточении, зачем выводить на сцену плутов. Пусть сердятся плуты; но сердятся те, которых я не знал вовсе за плутов. Сказать о плуте, что он плут, считается у нас подрывом государственной машины; сказать какую-нибудь только живую и верную черту — значит, в переводе, опозорить все сословие».
Гоголь бросает все и уезжает за границу, чтобы там «размыкать свою тоску». За границей пишет первый том «Мертвых душ», испытывает захватывающие дух восторги творчества. «Клянусь, я что-то сделаю, чего не делает обыкновенный человек, — пашет он Жуковскому. — Львиную силу чувствую в душе своей...» Весь он живет в своем труде. Но есть в душе одно обожженное место, оно все время горит и напоминает о себе: как бы «частного не приняли за общее, случай — за правило», как бы выведение «двух-трех плутов» не зажгло читателей ненавистью к целому строю, делающему возможным процветание этих плутов. Как говорит в его «Театральном разъезде» «очень скромно одетый человек»: «Пусть парод отделит правительство от дурных исполнителей правительства. Пусть видит он, что злоупотребления происходят не от правительства, а от непонимающих требований правительства, от нехотящих ответствовать правительству». И вот перед Гоголем встает задача: как-нибудь нейтрализовать слишком разъедающую едкость своего смеха, за неистовым отрицанием дать некое светлое утверждение.
Приступив к печатанию первой части «Мертвых душ», он пишет Плетневу: «Не судите о «Мертвых душах» по той части, которая готовится теперь предстать на свет. Это больше ничего, как только крыльцо к тому дворцу, который во мне строится». И Погодину он пишет, посылая отпечатанную первую часть: «Я не могу не видеть ее малозначительности в сравнении с другими, имеющими последовать ей частями. Она, в отношении к ним, все мне кажется похожею на приделанное губернским архитектором наскоро крыльцо к дворцу, который задуман строиться в колоссальных размерах». Княжне Репниной Гоголь говорил, что первый том — это грязный двор, ведущий к изящному строению.
Читать дальше