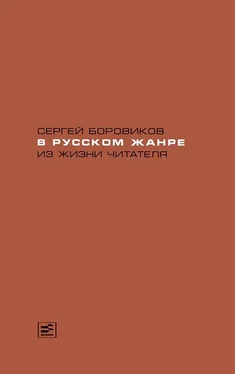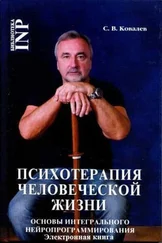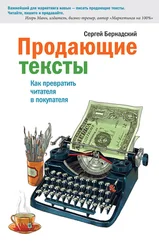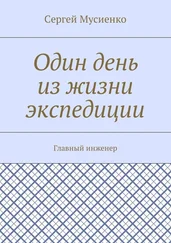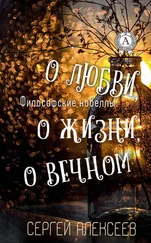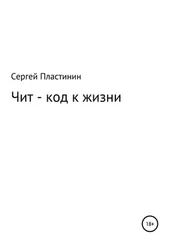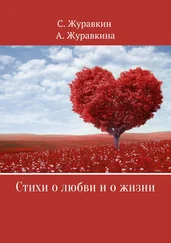* * *
«По наблюдениям А. И. (Куприна. — С. Б.), в семье А. П. Чехова господствовала довольно развязная манера вышучивать всех и вся». (М. К. Иорданская (Куприна)).
* * *
В один день 7 февраля 1903 года он пишет из Ялты Куприну и Телешову, сообщая, что в академическом «Словаре русского языка» имеются ссылки на их тексты. Большая часть обоих писем практически одинакова: информация, примеры цитат; затем разное — Куприну личное и тёплое, Телешову суховато вежливое: о морозе, здоровье и прочем. Однако отличия в сообщениях о «Словаре» замечательны: Телешову: «в “Словаре…’’…показались и Вы». Куприну: «в “Словаре…’’…наконец показались и Вы». И далее. К приведённым из Куприна примерам Чехов комментария не даёт, а для Телешова приписывает следующее: «Стало быть, с точки зрения составителей словаря, Вы писатель образцовый, таковым и останетесь на веки вечные».
В угрюмом одиночестве (в тот же день пишет Книппер: «Время идёт быстро, очень быстро! Борода у меня стала седая, и ничего мне не хочется»), в холодном доме, получив том «Словаря», он делится с Куприным искренней радостью, а Телешова высмеивает. Видимо, правда, что Николай Дмитриевич был человек недалёкий, раз Чехов был уверен, что тот не почует издёвки в похвале.
* * *
Прочитав «На покое», он пишет Куприну: «героев своих, актёров, Вы трактуете по старинке, как трактовались они уже лет сто всеми, писавшими о них. <���… > Бритые актёры похожи друг на друга, как ксёндзы, и остаются похожими, как бы старательно Вы ни изображали их…» (1 ноября 1902 г.).
Но именно так сам Антон Павлович и трактовал своих актёров в рассказах «Барон», «Месть», «Трагик», «Комик», «На кладбище», «Бумажник», «Сапоги», «Конь и трепетная лань», «После бенефиса», «Средство от запоя», «Антрепренёр под диваном», «Актёрская гибель», «Первый любовник», «Калхас», «Произведение искусства», «Юбилей», «Критик» (с 1882 по 1887 год). Практически везде, где касался он актёрской фигуры, это был неопрятный необразованный пьяница, с замашками и претензиями на нечто в искусстве, «выносливый, как камень», то есть вариации Аркашки Счастливцева и Шмаги. Портреты их, на схожесть которых указывает он Куприну, также не отличаются разнообразием: «бритая, синевато-багровая физиономия», «сизая, заспанная физиономия», «с бритой актёрской физиономией и сизым кривым подбородком», «два ряда мужчин с бритыми физиономиями», «с кривым подбородком и малиновым носом».
Писатель и сочувствует их нелёгкой доле, и презирает их. Страшную смерть в убогом номере в тоске по родимой Вязьме благородного отца и простака («Актёрская гибель») перемежает жалкая подлость фатоватого премьера («Первый любовник»), но чаще всего представлен забавный эпизод, вроде пропивания денег вместо раздачи долгов или долгожданного похода в баню («После бенефиса»).
* * *
«Чудной народ! Одно слово, артисты. Будь я губернатор или какой начальник, забрал бы всех этих актёров — и в острог» («Сапоги», 1885).
* * *
В рассказе И. Бунина «Алексей Алексеевич» (1927) доктор Потехин, «с грубыми простонародными чертами лица… неизменно медлительный и до наглости самоуверенный», на вопрос пациента о прогнозе болезни, «ответил с истинно хамской беспощадностью: “Я пророчествами не занимаюсь…”».
В рассказе Чехова «Цветы запоздалые» (1882) доктор Топорков, «по происхождению плебей», «важен, представителен», идёт «важно, по-генеральски», на вопрос о прогнозе болезни «сухо, холодно» отвечает: «Не могу я знать-с, я не пророк».
Рассказ, которым прославился начинающий Горький — «Челкаш» (1895) — очевидный перепев рассказа Чехова «Беспокойный гость» (1886). Правда, Горький ссылался на реальную беседу в больнице с каким-то одесским босяком, который и поведал ему о случае, с ним происшедшем. И сюжет как бы не настолько совпадает, чтобы говорить о перепеве: у Чехова лесник боится выйти из избушки на крик о помощи, тогда как захожий охотник идёт; воротившись, он не только срамит лесника, но ещё и пугает: «Возьму вот и ограблю. Стало быть, у тебя деньги есть, ежели боишься!». Деньги на сцену не являются, и нет, разумеется, лобового, как у Горького, морализаторства, и всё же нельзя отделаться от привкуса вторичности у Горького.
Впрочем, чеховский привкус неизбежен зачастую даже при чтении Бунина и, уж конечно, Горького, Андреева, Куприна и менее значимых современников. Чаще всего это взятая напрокат, на слух, всепроникающая интонация Чехова, рисунок которой так легко повторить и так невозможно наполнить своим.
Читать дальше