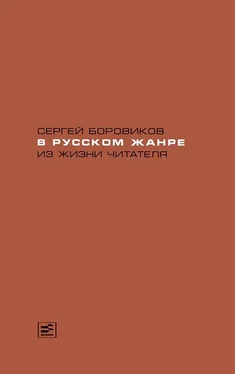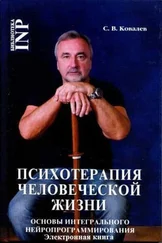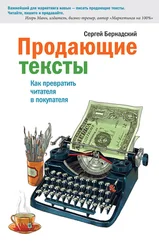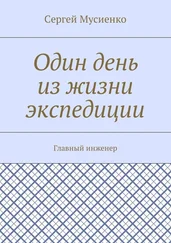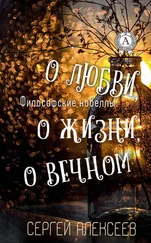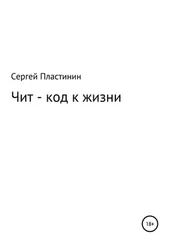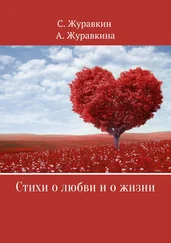* * *
«Убеждён, что Гоголь никогда не жёг “Мёртвых душ”. Не знаю, кого больше ненавижу как человека — Гоголя или Достоевского» (Бунин И.А. Дневник. 30.IV.40).
* * *
Достоевский каждой своей страницей сводил на нет колоссальную работу Бунина над стилем, его достижения и поиски нужного слова в изображении вещного мира, всё его тончайшее эстетическое сито. Не для читателя — для самого Бунина. Нелюбовь Достоевского к Гоголю того же происхождения: там, где Достоевскому нужно было написать роман, Гоголь мог обойтись полстраницей.
* * *
О, великий Дюма! «Виконт де Бражелон» — дворцовые интриги, галантность («галантерейность»), но целая глава о пищеварении Людовика XIV, о котором до сих пор всё было воздушно-любовное (принцесса, Лавальер) или поступательно-монаршье. У короля за ужином Портос.
«— Вы отведаете этих сливок? — спросил он Портоса.
— Ваше Величество, вы обращаетесь со мной так милостиво, что я открою вам правду.
— Откройте, господин дю Валлон, откройте!
— Из сладких блюд, Ваше Величество, я признаю только мучные, да и то нужно, чтобы они были очень плотны; от всех этих муссов у меня вздувается живот, и они занимают слишком много места, которым я дорожу и не люблю тратить по пустякам».
В следующей главе король поручает д’Артаньяну выяснить обстоятельства ранения де Гиша. Воротившись, д’Артаньян докладывает, и это чистый Шерлок Холмс: «По ней шли два коня бок о бок; восемь копыт явственно отпечатались на мягкой глине. Один из всадников торопился больше, чем другой. Следы одного коня опережают следы другого на половину корпуса… <���… > Кони крупные, шли мерным шагом; они хорошо вымуштрованы, потому что, дойдя до перекрёстка, повернули под совершенно правильным углом. <���… > Там всадники на минуту остановились, вероятно, для того, чтобы столковаться об условиях поединка. Один из всадников говорил, другой слушал и отвечал. Его конь бил копытом, это доказывает, что он слушал очень внимательно, опустив поводья». И эдак пять страниц за полвека до сэра Артура.
* * *
Для Льва Толстого, как, вероятно, никакого другого русского классика, характерно количественное отношение к литературному труду, которое сделается ведущим в XX веке. Много писать или мало? Или вовсе не писать? Сидит Достоевский и на этот счёт письменно размышляет… невозможно — он пишет! У Толстого же эта тема в разные годы присутствует в дневниках. «Хорошо ли или дурно, всегда надо писать. Ежели пишешь, то привыкаешь к труду и образовываешь слог, хотя и без прямой пользы. Ежели же не пишешь, увлекаешься и делаешь глупости. Натощак пишется лучше» (Дневник. 29 июня 1853 г., на Кавказе, в ст. Старогладковской).
«Вчера думал: Многописание есть бедствие. Чтобы избавиться его, надо установить обычай, чтобы позорно б[ыло] печататься при жизни — только после смерти. Сколько бы осадку село и какая бы пошла чистая вода!» (Дневник. 28 февраля 1889 г., Москва).
Дело, конечно, не в том, что через сорок пять лет он изменил точку зрения, а в том, как его занимало количество сочиняемого и его соотношение с окончательно сочинённым, то есть. КПД. Одна из причин, если не единственная причина, в том, что он физически не мог не писать, и это порой его удручало. Притом что он, как почти никто другой, мог позволить себе не завершать, откладывать, отделывать, мог искренне ужасаться тому, что кто-то должен писать из-за денег — гнать строку. Так-то оно так, но его внимание ко всему этому, в таких-то условиях, выдаёт его постоянное осознание себя как производителя ценности, как в духовном, так и материальном, то есть гонорарном смысле. Как это у него в первой записи? — писать для слога, «хотя и без прямой пользы».
Тут не просто вопрос денег, хотя в те годы, да ещё и не раз позднее, Толстому приходилось зависеть от продажи сочинений. Здесь и то, присущее каждому пишущему, независимо от таланта, бережливое отношение к исписанному своей рукой листу бумаги, к своему труду. Уничтожение — разорвать, сжечь — тоже не вполне духовно-содержательного происхождения, но и материального, так поджигают жилище, жгут деньги, убивают любимого человека. Отношение как к собственности, к тому же собственности в квадрате — собственности, произведённой тобой своими руками, своим трудом.
Каждому пишущему знакомо чувство физического удовлетворения, которое приносит осязаемый объём исписанной тобой пачки листов.
Ну а ощущение каждой выведенной на бумаге буквы, как будущего пука ассигнаций, передано западными писателями, особенно Джеком Лондоном. Замечательное отечественное наблюдение я слышал не помню от кого из писателей, учившихся в 60-е годы на пресловутых Высших литературных курсах. Сидит рассказчик в аудитории и, как большая часть товарищей, не слушает лекцию, а сочиняет. Написал, перечитал, подумал, вздохнул, вычеркнул. «Ты что делаешь? — слышит за плечом голос собрата-писателя восточной национальности. — А детей чем кормить будешь?!»
Читать дальше