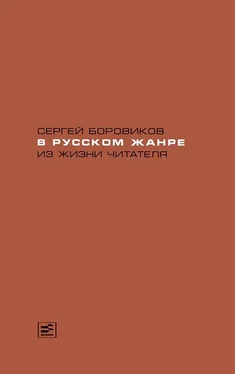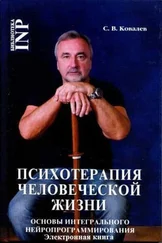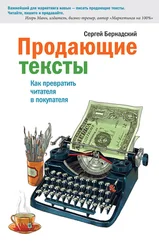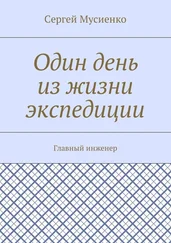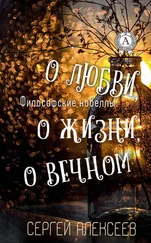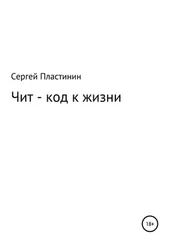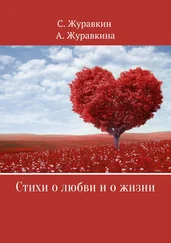* * *
Самые «положительные» из персонажей «Мёртвых душ» — это жи́ла Собакевич и подлец Чичиков. Собакевич всего-то приписал Елизавету Воробей да сожрал осетра, но не выдал, не предал ни себя, ни других, не скособочился в изменяющихся обстоятельствах чичиковского дела. А как хорош он в черновом наброске к последней главе, где в ответ на притязания прокурора распытать что-нибудь о Чичикове обзывает прокурора бабою и срамит. Что же касается Чичикова, самим автором заклеймённого как подлец, то ответим себе на такой вопрос: с кем из персонажей поэмы мы решились бы при необходимости иметь дело, просто общаться? С Маниловым? Коробочкой? бабой-прокурором — с брежневскими бровями? Ноздревым? Зятем-фетюком? Дураком-губернатором? Плюшкиным? Полицеймейстером — «отцом и благотворителем» города? Председателем? Дамами просто и приятными во всех отношениях? Вечным, как жид, русским чиновником по взяткам, вроде Ивана Антоновича — кувшинное рыло?
В реестрике, правда, опущены мужики из списка Собакевича, над которым Чичиковым — автором пропета слава русскому мужику. Мы забыли и про Селифана и Петрушку? Про черноногую девчонку и многих других, но если выбирать из центральных персонажей, то я бы охотнее водил знакомство с жуликом Чичиковым, чем с российскими чиновниками или помещиками «Мёртвых душ», за исключением Собакевича, который, по крайности, таков, каков он есть.
* * *
То, что нами оказались забыты мужички среди предполагаемых воображаемых знакомцев, конечно, не случайно. Вся русская литература с барами и мужиками воспринимается нами — почти поголовно потомками если не мужиков, то и не бар — с точки зрения бар. Книга, написанная барином с точки зрения барина и для барина, таковою же и осталась. Мужики Марей и Влас, Платон Каратаев и Левша не увидены и не могли быть увидены изнутри, и взгляд на них со стороны сохранился второе столетие неподпорченным, как бы ни ковыряли его в известные года. Ковыряли, заметим, совершенно с социальной точки зрения, справедливо: «Война и мир» — помещичье-дворянское сочинение. А чьё же ещё?
Разночинец сочинял о народе как бы иначе, но «подлиповцы» поданы как столь бессмысленно явившиеся в мир Божий, что невозможно не только проникнуть в их внутренний мир, но даже и предположить его существование по хотя бы косвенным признакам.
* * *
Так называемые «лирические отступления» (о, проклятая школа!) «Мёртвых душ» вызваны невероятной, принадлежащей, несомненно, не тридцатилетнему Николаю Яновскому, но Небу интонацией. Он сам отчётливо сознавал, что возводит читателя на нечеловеческую высоту и прямо о том сказал пред самым, быть может, трагическим из «отступлений», названных Белинским «мистико-лирическими выходками в “Мёртвых душах”». Уже то, что критик советовал читателю их «пропускать при чтении, ничего не теряя от наслаждения, доставляемого самим романом», есть почти исчерпывающая характеристика неистового Виссариона. Это отступление о заблуждениях человечества, «текущего в глухой темноте» мимо настоящего своего пути. Пред ним Николай Васильевич предупреждает читателя о предлагаемой точке зрения на тот счёт, чтобы у того от высот не закружилась голова: «Читателям легко судить, глядя из своего покойного угла и верхушки, откуда открыт весь горизонт, на всё, что делается внизу, где человеку виден только близкий предмет».
* * *
Судьба Хомы Брута не есть ли судьба самого Гоголя, и конец его не есть ли предсказанный себе конец?
* * *
Дни до похорон: торжество покойника.
* * *
Приподнятое возбуждение подлеца.
* * *
Я боюсь людей, на глазах которых вскипают слёзы умиления при рассказе о собственном добром деянии.
* * *
Классический, как ему кажется, пример неряшливости Достоевского в слове приводит М. Горький: «Вошли две дамы, обе девицы» («Подросток»). Только ведь нелепость мнимая. По Далю, девица — это «всякая женщина до замужества своего», а дама — «женщина высш. сословий, госпожа, барыня, боярыня». Будучи по семейному положению девицей, по социальному можно было быть дамой.
Всё более убеждаюсь, что у Достоевского, собственно, и не бывает осечек. По-своему — то есть со злобой — отметил это ненавидевший его Бунин: «…всё у него так закончено и отделано, что из этого кружева ни одного завитка не расплетёшь…».
Где-то читал, как Достоевскому указали на необходимость исправить «круглый стол овальной формы», и он, подумав, велел оставить как есть!
Читать дальше