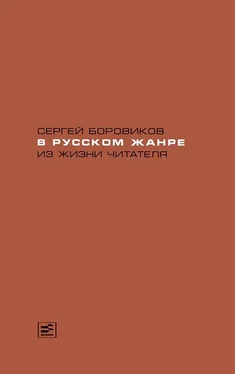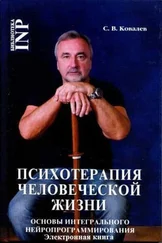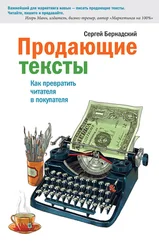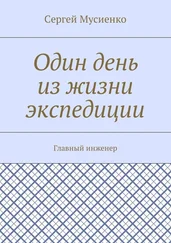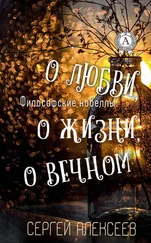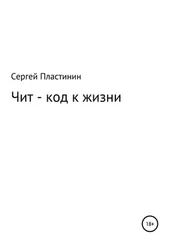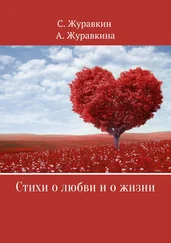Мы проходили поточной линией красивых, кажется фрезерных, станков, меня чёрт толкнул под локоть, я сунулся поближе к одному из них и, узрев металлическую этикетку «Made in USA», радостно провозгласил: «Америку догоняем, а станки-то американские!».
Всё? Нет.
На следующий день наш классный руководитель Евгения Валентиновна, на перемене увела меня в укромный уголок, и спросила негромко: «Серёжа, вот ты сказал: «Америку догоняем, а станки американские», почему сказал?». Я, естественно, молчал. Она продолжила: «У вас, наверное, так дома говорят? Не бойся, скажи: ты это дома слышал?» Я мужественно отверг её предположение, настаивая на своём авторстве.
Этим дело и кончилось.
А Евгения Валентиновна спустя годы после окончания нами школы, при встрече на улице отворачивалась от нас, учеников класса «А». Мы долго недоумевали, пока кому-то из нас другая пожилая учительница не объяснила, что Е. В. стыдится того, как она обращалась со своим первым выпуском. Настолько с каждым годом ужаснее в её глазах становились ученики, что со временем мы стали представляться ей ангелами.
* * *
Когда на «собеседовании» в обкоме комсомола с группой, направляющейся в ГДР, предупредили, что более одного «паласа» привозить нельзя, самая старшая в группе, некрасивая и измождённая девица с начёсом сухих волос, громко, в голос, зарыдала. Потом выяснилось, что ей на путёвку сложились две семьи — её и мужа, с единственной целью, чтобы та привезла несколько «паласов». (Если кто не помнит, так назывались синтетические ковры без ворса.)
Из той же поездки, кажется, 1975 года.
Два парня тащили с собою (поездка была поездом) хоть по тем временам и портативный, но тяжеленный пузатый телевизор в надежде где-нибудь в ГДР посмотреть по нему порнуху из ФРГ, будучи убеждёнными, что по телевидению капстран только её и показывают.
В первом же немецком городе, Котбусе, вечером в ресторане отличился Валера — помощник машиниста из Ртищева, страшно похожий обликом на знаменитого тёзку с «Таганки». Когда столики обносили подносом с коньяком, он пытался вырвать его из рук официанта. Попозже, набравшись, войдя в туалет и не видя меня, он от двери громко заявил: «Ну, вы, немцы! Я вам прямо скажу: я пришёл поссать!».
* * *
Жизнь даёт немало примеров, когда человек неожиданно, и, увы, запоздало обнаруживает своё призвание. В чьих-то воспоминаниях (так и не вспомнил, в чьих, считал, что Вертинского, но не нашёл) есть рассказ о шеф-поваре эмигрантского русского ресторана, бывшем губернаторе. Он наслаждался жизнью, проводя весь день на кухне, делая пробы, по утрам самолично закупая на рынке провизию. На вопрос, не жалеет ли тот об утраченном положении, мемуарист получил признание в наконец-то обретённой гармонии существования.
Но призвание может так и пропасть втуне, и никто, включая его носителя, так о нём и не догадается. Разве что случайно.
Некогда обретался в нашей студенческой компании старший из нас по возрасту, где-то служащий инженером Володя Шевченко, по прозвищу Эйсебио. Был он славным парнем. Рыжим, донельзя к тридцати годам пропитым и, как то нередко у русских пьяниц, добрейшей души человеком.
Почему же Эйсебио?
Как-то на пляже, когда рядом играли в футбол, а Шевченко, разлегшись на песке, в карты, к нему подкатился мяч. Он встал и так как до играющих было довольно далеко, не кинул мяч рукою, но, как-то глупо ухмыльнувшись, ударил ногой. Тот, в кого он угодил своим, без преувеличения пушечным, ударом, свалился на песок. К игре в футбол Володя, разумеется, так и не приохотился, разве что когда очень уж приставали, мог ударить по мячу, отправив его в заоблачные дали.
Умер молодым.
* * *
Встречи в начале-середине 90-х наиболее преуспевающих по части бесконечных грантов, изданий и лекций за границей, коллег-писателей на родимой московской (куда реже питерской и вовсе никогда провинциальной) почве живо напоминали встречу Несчастливцева и Счастливцева:
— Куда и откуда?
— Из Парижа в Нью-Йорк-c, Геннадий Демьяныч. А вы-с?
— Из Нью-Йорка в Париж.
* * *
Когда сейчас единодушно родоначальником оттепельного исповедального романа признаётся Василий Аксёнов, это не совсем так. Я хорошо помню шум вокруг «Коллег» (1960) и особенно «Звёздного билета» (1961). «Коллеги», за исключением ленинградского стиляжного антуража, — типичная история того, как молодые люди по тогдашнему выражению «вступают в жизнь».
Но начало «исповедальная проза» берёт не от «Звёздного билета». До романов Аксёнова в той же «Юности» были опубликованы повести «Хроника времён Виктора Подгурского» (1956) — дебют 21-летнего (!) Анатолия Гладилина, и его же «Дым в глаза» (1959). Потом он написал скучнейшую антикультовскую повесть «Первый день Нового года» и вообще как-то съёжился. Так вот сюжет «Дыма в глаза» строился на том, что мятущемуся в поисках самоутверждения и славы герою некий старичок предлагает возможность прославиться и разбогатеть без всяких на то усилий, наделив его необыкновенным футбольным дарованием. Оно обнаруживается на стадионе, где доселе не игравший в футбол герой, к которому подкатился с поля мяч, на предложение «Пни, авось докатится!» ударяет по мячу совсем как наш Володя Эйсебио.
Читать дальше