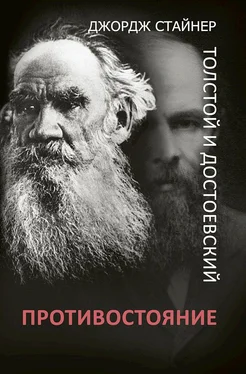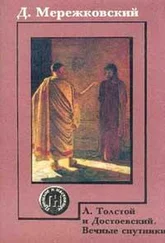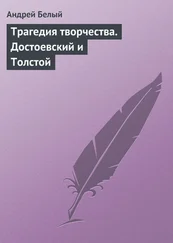Роман унаследовал все эти сложности и спорные моменты, и мы можем видеть разницу между романистами, чье чувство времени склоняет их к эпосу, и теми, кто воспринимает время в драматическом ключе. Прозу читают глазами, а не вслух, и не играют на сцене, но все же «пьеса читаемая, — как говорит доктор Джонсон, — воздействует на сознание так же, как и пьеса исполняемая». И наоборот, роман читаемый влияет на воображение так же, как и увиденное действо. Таким образом, проблема реального и воображаемого времени актуальна для прозаика не в меньшей мере, чем для драматурга. Весьма неординарное и продуманное решение дано в «Улиссе», где ограниченная одним днем — а следовательно, драматическая — временная схема наложена на материал, чьи структура и связи явным образом эпичны.
Достоевский видел время глазами драматурга. «Что такое время?» — спрашивает он в набросках к «Преступлению и наказанию». И отвечает: «Время не существует; время есть цифры, время есть: отношение бытия к небытию». Он интуитивно концентрирует запутанные и многочисленные события в максимально — насколько это возможно для соблюдения правдоподобия — короткие промежутки времени. Эта концентрация блестяще создает ощущение кошмара — без жестов или слов, способных смягчить или замедлить действие. Толстой движется постепенно, подобно морскому приливу, в то время как Достоевский время скручивает и отжимает. Он выбрасывает из времени минуты досуга, которые могут успокоить или примирить. Его ночь преднамеренно населена не менее плотно, чем день, чтобы сон не приглушил гнев или не рассеял ненависть, вскармливаемую конфликтами персонажей. Петербургские дни и «белые ночи» у Достоевского сжаты и галлюцинаторны; это не просторный полдень под Аустерлицем, где лежит князь Андрей, и не глубокие звездные пространства, в которых обретает свой покой Левин.
Одна из главных частей в «Идиоте» охватывает всего сутки, основные инциденты в «Бесах» происходят в течение сорока восьми часов, а в «Братьях Карамазовых» все события, кроме суда, совершаются за пять дней, — для видения и замысла Достоевского этот факт не менее важен, чем ужасающая краткость периода, отделяющего Эдипа-царя от Эдипа-нищего. Скорость, с какой Достоевский порой работал (первую часть «Идиота» он завершил за двадцать три дня), — нечто вроде физического аналога стремительного ритма его сюжетов.
В «Идиоте» темп задан уже первым предложением: «В конце ноября, в оттепель, часов в девять утра, поезд Петербургско-Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу». По одной из тех случайностей, которые играют ключевую роль в формировании сюжета у Достоевского, князь Мышкин и Рогожин сидят друг напротив друга в вагоне третьего класса. Это соседство — определяющий фактор, ибо они являют собой две стороны изначально задуманной двуединой фигуры. Здесь Достоевский использует «двойников» не настолько впрямую, как в своей ранней «гофмановской» повести про Голядкина, но Рогожин и Мышкин, тем не менее, все равно двойники. Отделение Мышкина от Рогожина можно проследить по следующим друг за другом вариациям в черновиках. На первых порах создания романа Мышкин — неоднозначная байроническая фигура, эскиз Ставрогина из «Бесов». В нем (как и в самой сердцевине метафизики Достоевского) добро и зло были неразрывно переплетены, а связанные с ним фразы включали в себя «убийство», «изнасилование», «самоубийство», «инцест». В седьмом по счету наброске Достоевский спрашивает: «Кто он? Страшный злодей или таинственный идеал?» Вдруг на странице записной книжки вспыхивает великая идея: «Он князь ». И сразу же: «Князь. Юродивый (он с детьми)?!» {1} 1 По словам редакторов издания записных книжек в «Плеяде», написание слова «князь» подсказывает: Достоевский увидел, что нашел центральный мотив. Но княжеский титул еще принадлежит не Мышкину, а, похоже, второстепенному персонажу из первоначальной концепции романа. Лишь со временем Достоевский понимает, что князь — это не кто иной, как тот самый «идиот» ( Прим. авт. ).
Видимо, это и стало решающим. Правда, в случае со Ставрогиным и Алешей Карамазовым мы видим, что в языке Достоевского титул «князь» несет в себе неоднозначные оттенки.
Мышкин — составной персонаж; мы узнаем в нем Христа, Дон Кихота, Пиквика и юродивых из православной традиции. Но связь его с Рогожиным несомненна. Рогожин — это первородный грех Мышкина. В той мере, в какой князь — человек, а значит, наследователь грехопадения, они оба должны оставаться одним целым. С них роман начинается, и заканчивается он тоже на них — разделяющих общий рок. В попытке Рогожина покончить с Мышкиным видна пронзительная горечь самоубийства. Их неразделимость — аллегорический рассказ о том, что у врат познания непременно присутствует зло. Как только Рогожина у Мышкина отбирают, князь вновь впадает в идиотизм. Как понять, что есть свет, если нет тьмы?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу