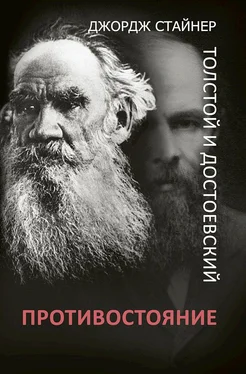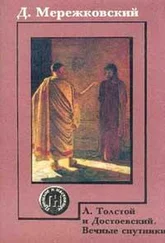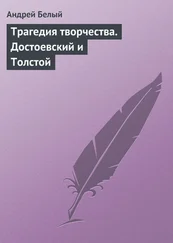Замечание в письме брату от 30 сентября 1844 года показывает, что идея театральной постановки продолжала занимать его мысли, и у него, на самом деле, даже могла быть некая рукопись:
«Ты говоришь, спасение мое драма. Да ведь постановка требует времени. Плата также».
Достоевский к тому времени уже перевел «Евгению Гранде» Бальзака и почти закончил «Бедных людей». Но его очарованность сценой не ушла безвозвратно; нам известно, что зимой 1859 года он планировал написать трагедию и комедию, а на закате творческой жизни, работая летом 1880 года над Одиннадцатой книгой «Братьев Карамазовых», обдумывал сценическое переложение одного из главных эпизодов.
Он обладал глубокими и весьма обширными познаниями в области драматургической литературы. Он досконально изучил Шекспира и Шиллера, поскольку они считались главными богами романтического пантеона. Но Достоевский также ценил и французский театр XVII века. В январе 1840 года он написал брату интереснейшее письмо:
«Но скажи, пожалуйста, говоря о форме, с чего ты взял сказать: нам не могут нравиться ни Расин, ни Корнель, оттого, что у них форма дурна? Жалкий ты человек! Да еще так умно говорит мне. Неужели ты думаешь, что у них нет поэзии? У Расина нет поэзии? У Расина, пламенного, страстного, влюбленного в свои идеалы Расина, у него нет поэзии? И это можно спрашивать. Да читал ли ты „Andromaque“, а? брат! Читал ли ты „Iphigénie“, неужели ты скажешь, что это не прелестно. Разве Ахилл Расина не гомеровский? Расин и обокрал Гомера, но как обокрал! Каковы у него женщины! Пойми его… А „Phèdre“? Брат! ты бог знает что будешь, ежели не скажешь, что это не высшая, чистая природа и поэзия. Ведь это шекспировский очерк, хотя статуя из гипса, а не из мрамора.
Теперь о Корнеле?… Да знаешь ли, что он по гигантским характерам, духу романтизма — почти Шекспир. Бедный! У тебя на все один отпор: „классическая форма“. Бедняк, да знаешь ли, что Корнель появился только 50 лет после жалкого, бесталанного горемыки Jodel’я (с его пасквильною „Клеопатрою“), после Тредьяковского Ronsard’а и после холодного рифмача Malherb’a, почти его современника. Да где же ему было выдумать форму плана? Хорошо, что он ее взял хоть у Сенеки. Да читал ли ты его „Cinna“. Перед этим божественным очерком Октавия, пред которым <���…> Карл Мор, Фиеско, Тель, Дон Карлос. Шекспиру честь принесло бы это… Читал ли ты „Le Cid“. Прочти, жалкий человек, прочти и пади в прах перед Корнелем. Ты оскорбил его! Прочти, прочти его. Чего же требует романтизм, если высшие идеи его не развиты в „Cid’е“».
Это весьма примечательный документ, и написал его — следует помнить — страстный поклонник Байрона и Гофмана. Обратите внимание, какие эпитеты он применяет к Расину: «пламенный», «страстный», «влюбленный в идеалы». Высшая оценка, данная «Федре», убедительна и обоснована (возможно, убежденности Достоевскому прибавляло то, что эту пьесу переводил на немецкий Шиллер). Еще более показателен абзац о Корнеле. Факт знакомства Достоевского с «Клеопатрой» Жоделя уже сам по себе поразителен, но по-настоящему впечатляет, когда он ссылается на эту пьесу, защищая архаичную, грубой обработки технику Корнеля. Более того, он увидел, что раннего Корнеля правильнее соотносить с Сенекой, а не с афинской трагедией, и что это соотнесение делает возможным сравнение с Шекспиром. Наконец, величайший интерес представляет то, что Достоевский проводит связь между Корнелем — и, в частности, «Сидом» — и понятием романтизма. Подобная оценка соответствует современным трактовкам Корнеля — как у Бразийака [83] Робер Бразийак (1909–1945) — французский писатель и журналист.
, например — и актуальному сегодня представлению о «романтических» чертах в героике, испанском колорите и риторической приподнятости французской доклассической литературы.
Хотя Достоевский не утратил связи с Расином («он великий поэт, хотим или не хотим мы этого с вами», говорит герой «Игрока»), влияние Корнеля в его творчестве все же проглядывает сильнее. В черновиках и набросках к последней части «Братьев Карамазовых», например, мы находим следующую запись: «Грушенька Светлова, Катя: Rome unique objet de mon ressentiment» [84] (Фр.) «Рим, ненавистный враг, виновник моих бед!» (пер. Н. Рыковой).
. Это, разумеется, отсылка к первой строчке проклятий Камиллы в адрес Рима из корнелевского «Горация». Возможно, Достоевский отталкивался от этой фразы, выстраивая черновой материал для сцены внезапного столкновения Кати и Грушеньки у Мити в арестантской больничной палате. В строчке из «Горация» звучит точно найденная нота беспощадности:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу