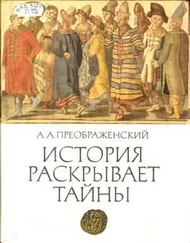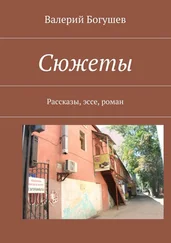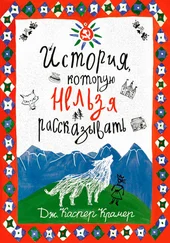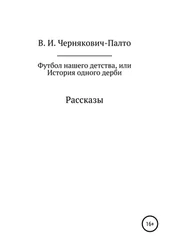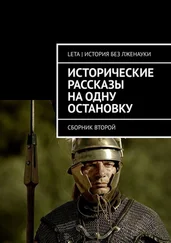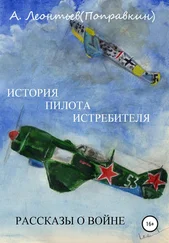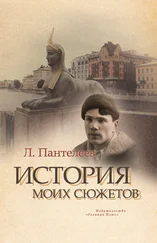Так в конце концов и происходит.
По приезде Пугачева Швабрин, несмотря на все отговорки, вынужден отпереть комнату, где на полу, в оборванном платье, бледная и худая, сидит Марья Ивановна. Перед нею кувшин с водой и кусок хлеба.
Швабрин заявил ранее, что там находится его больная жена. Сейчас его ложь разоблачена. «Я никогда не буду его женою!» — восклицает Марья Ивановна. «Я лучше решилась умереть, и умру, если меня не избавят».
«И ты смел меня обманывать!» — гневается Пугачев. Швабрин униженно падает на колени. Пугачев обращается к Марье Ивановне и говорит ей ласково: «Выходи, красная девица; дарую тебе волю…»
Нельзя здесь не вспомнить вещий сон Гринева. «Страшный мужик ласково меня кликал, говоря: «Не бойсь, подойди под мое благословение…» Ласковость страшного мужика — средоточие глубинной и самой важной мысли романа.
И тут Швабрин сообщает, что пленница его — дочь офицера, ревностно сражавшегося против Пугачева во главе белогорского гарнизона.
Да, он, Швабрин, скрыл правду. Но его обман касался личных его обстоятельств. А обман Гринева, дескать, похуже: это дела государственные.
«Пугачев устремил на меня огненные свои глаза. «Это что еще?» — спросил он меня с недоумением.
— Швабрин сказал тебе правду, — отвечал я с твердостию».
Лицо Пугачева омрачается: «Ты мне этого не сказал».
Развязка приближается. Что же произойдет?
Гринев оправдывается: если бы при помощниках Пугачева он сказал правду, они бы загрызли и его и дочь Миронова.
«И то правда, — сказал смеясь Пугачев. — Мои пьяницы не пощадили бы бедную девушку…»
В третий раз великодушие Пугачева торжествует над его ожесточившимся нравом, озлобившимся в преследованиях.
Происходит последний разговор дворянина с главой повстанцев. «…Бог видит», — говорит Гринев, — «что жизнию моей рад бы я заплатить тебе (выделим эти слова. — Е. Д. ) за то, что ты для меня сделал».
И обращается к Пугачеву с последней просьбой отпустить его с невестой к «своим».
« Ты мой благодетель… (выделим и эти слова. — Е. Д. ) А мы, где бы ты ни был и что бы с тобою ни случилось, каждый день будем бога молить (подчеркнем в третий раз слова Гринева. — Е. Д .) о спасении грешной твоей души…»
Пугачев соглашается. «Казалось, суровая душа Пугачева была тронута. «Возьми себе свою красавицу; вези ее, куда хочешь, и дай вам бог любовь да совет!» И велит Швабрину выдать героям романа пропуск через все заставы и крепости, ему подвластные.
* * *
После выхода в свет «Истории пугачевского бунта» на нее ополчился некто Броневский. Пушкин вступил с ним в полемику. В статье «Об «Истории пугачевского бунта» Пушкин приводит характерную тираду своего критика:
«…Емелька Пугачев бесспорно принадлежал… к извергам, вне законов природы рожденным; ибо в естестве его не было и малейшей искры добра… История сего злодея может… вселить отвращение даже в самых разбойниках и убийцах. Она вместе с тем доказывает, как низко может пасть человек и какою адскою злобою может быть преисполнено его сердце».
Таков был казенный набор хулы и проклятий по адресу народного вожака: «изверг», «ни малейшей искры добра»; «злодей», могущий «вселить отвращение» даже у разбойников и убийц; «адская злоба»; «как низко может пасть человек» и так далее.
Пушкин нарочно цитирует эти «нравоучительные рацеи», чтобы заклеймить их, назвав «слабыми и пошлыми».
Конечно, Пушкин мог бы найти и более убийственные эпитеты. Но, помня об опасностях, стоявших на пути «Капитанской дочки», понимая, что за спиной Броневского стоят Уваровы и Бенкендорфы, Пушкин ограничился немногословным выпадом.
Сокрушительный отпор Броневскому Пушкин дал художественным образом Пугачева.
— Смотрите, каков он! — слышим мы взволнованный голос автора, скрытый под спокойным тоном повествования. Пушкин любуется Пугачевым в этот момент и не желает этого скрывать.
В фальшивом «предании», на которое Пушкин ссылается в письме к цензору, шла речь о милосердии императрицы, которого в действительности не было.
В эпизодах спасения Маши Мироновой тема милосердия звучит не менее сильно, нежели в разговоре Пугачева наедине с Гриневым после расправы над офицерами.
Но не только сильно, а и красиво. Рыцарственно, я бы сказал.
Милосердие, великодушие, рыцарственность переданы Пугачеву.
Пушкин не обходит и не желает обходить мрачных сторон восстания. Но теперь, после всего сказанного выше, быть может, стоит обратить внимание читателя на пропорции повествования, на распределение красок. Лютая расправа с офицерами (безвинной жертвой падает и Василиса Егоровна) занимает в романе три страницы. А сюжету встречных благодеяний, начиная с эпизода бурана, и перипетиям Гринев — Пугачев — Марья Ивановна уделено более двадцати страниц.
Читать дальше
![Ефим Добин История девяти сюжетов [рассказы литературоведа] обложка книги](/books/27190/efim-dobin-istoriya-devyati-syuzhetov-rasskazy-litera-cover.webp)
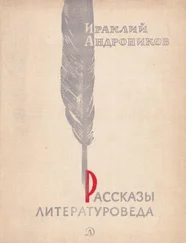
![Елизавета Драбкина - История одного карандаша [Рассказы]](/books/30471/elizaveta-drabkina-istoriya-odnogo-karandasha-rassk-thumb.webp)