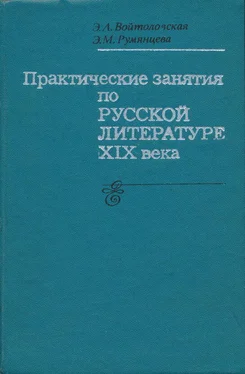Практические занятия — процесс творческий не только со стороны студента, но, прежде всего, преподавателя. Личность ведущего занятия, его облик как человека и педагога играют большую роль. Следует непременно рассказывать студентам отом, как помогали нам знакомиться с книгой наши учителя. Каждый из них, если это был настоящий ученый и педагог, обладал своим методом работы. В. А. Десницкий, привлекавший всех нас оригинальностью и остротой своей мысли, эрудицией и меткостью суждений, был особенно силен и значителен в методологических вопросах. Недаром В. М. Жирмунский сказал о нем: «Надо прямо сказать, что марксизм пришел к ленинградским историкам литературы разного возраста, разных поколений в первую очередь через В. А. Деснидкого» [14] В. А. Десницкий — ученый и педагог. — «Ученые записки ЛГПИ имени А. И. Герцена», № 381, 1971, с. 102.
.
Эту сильнейшую сторону личности В. А. Деснидкого аспиранты, учившиеся у него в методологических семинарах по литературе, а потом работавшие под его руководством, отлично сознавали и глубоко ценили. Он по–своему знакомил студентов с книгой. Во время доклада, выступления, на экзамене он требовал четких ответов, по какому изданию того или другого классика иликритика было подготовлено данное сообщение: по однотомнику ли, по собранию избранных произведений, по полному собранию сочинений или по академическому изданию и т. д. Блестящий знаток и страстный любитель книги, В. А. Десницкий постоянно озадачивал студентов неожиданными вопросами о формате книги, о цвете переплета, количестве томов издания, о том, где и когда оно вышло, требовал внимания к текстологической работе научных редакторов книги. Нередко В. А. Десницкий спрашивал своих учеников о том, как им понравилось то илииное издание. И этот вопрос обычно казался трудным, студент решительно не знал, как ему оценить издание и с какого конца надо начинать свой ответ. «Ну, а как показалась вам вступительная статья? Какие мысли автора статьи вы нашли интересными? Что в этой работе вызывает ваши возражения?» И как было досадно студенту, если он не заглядывал в статью, не знал, кто писал комментарии к изданию, о котором шла речь.
Знакомил нас с книгой и другой замечательный знаток ее — Александр Григорьевич Фомин, ученик С. А. Венгерова, автор знаменитой «Пушкинианы», «Путеводителя по библиографии литературы» и других ценных библиографических трудов.
А. Г. Фомин был не только великолепным знатоком книги, он в полном смысле слова был ее рыцарем, любившим ее и служившим ей беззаветно. Он отлично видел, как слабо разбираются аспиранты в огромном множестве трудов по библиографии и историографии. В то время (1933—1936 гг.) было множество самых различных справочников, отличающихся друг от друга и по своему типу, и по содержанию, и но конструкции, и, наконец, по своей методологии.
Для А. Г. Фомина было чрезвычайно важно, чтобы мы видели каждый библиографический справочник de visu, знали, в какой мере то или иное библиографическое пособие будет полезно нам в нашей работе. А. Г. Фомин приносил специальные задания для каждого цз нас, и мы тут же в аудитории решали эти ребусы. Так, исподволь составляя библиографию каждый по своей теме, мы с помощью глубоких, серьезных и квалифицированнейших советов подбирали ключ к библиографическим указателям, незаметно становились в этом отношении самостоятельными.
Многому можно было поучиться у Николая Кирьяковича Пиксанова. И своим личным примером, и своими научными трудами, советами он организовывал наш аспирантский труд. Это в равной степени относилось и к студентам, о чем взволнованно рассказывал В. С. Шадури, который со студенческой скамьи был учеником Н. К. Пиксанова [15] См.: Шадури В. Памяти выдающегося ученого и педагога. Некролог. — «Литературная Грузия», 1969, № 5–6, с. 191—192.
. Учил нас Н. К. Пиксанов не только в аудитории, но и дома, в своей замечательной библиотеке–лаборатории, с ее детальным тематическим подбором литературы. Каждый мог назвать Н. К. Пиксанову тему, которой он занимался, и получить от него нужные материалы и книги. Библиотека ученого составлялась больше 70 лет, это была «почти полная история русской литературной науки за 200 лет ее существования» [16] Берков П. Н. Записки книголюба. — «Веч. Ленинград», 1959, 12 дек.
. Случалось, мы не соглашались со сделанным Н. К. Пиксановым выводом, замечанием по гой или иной статье. Он возражал, спорил, если видел, что наши возражения продуманны. Все это было поучительно и имело большое воспитательное значение. Те из нас, кто занимался Грибоедовым, знакомились с уникальным «Грибоедовским собранием Пиксанова», о котором подробно рассказано в интересной статье [17] См.: Барсук А. И. Рабочая лаборатория ученого. (О библиотеке Н. К. Пиксанова). — Книга. Исследования и материалы, сб. XVII. М., 1968, с. 243—249.
.
Читать дальше