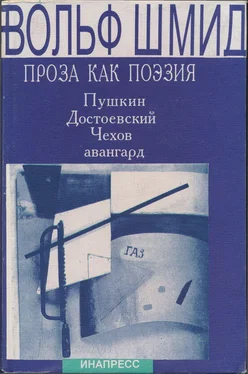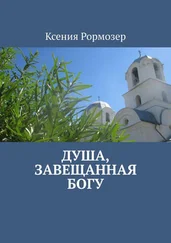Словно желая расширить сходство с другом детства и областью службы, тонкий спрашивает толстого о его ранге, предполагая, что тот дослужился даже повыше: «Ну, а ты как? Небось, уже статский? А?» (II, 251). Статский советник, чиновник пятого класса в табели о рангах, на три класса выше коллежского асессора (таков ранг тонкого). И все же толстый, если бы он был статским советником, находился бы для тонкого в границах сходства. Но оказывается, что толстый имеет чин еще на два класса выше: «Нет, милый мой, поднимай повыше […] Я уже до тайного дослужился… Две звезды имею». Занимая третий класс в табели и тем самым превышая тонкого на пять классов, приятель решительно перешел границы сходства.
Узнав об ошеломляюще высоком ранге друга, тонкий претерпевает то изменение, которое сравнивалось исследователями с мимикрией хамелеона. [465]Но, собственно говоря, тонкий не изменяется, а только выражает всей фигурой еще радикальнее свое основное качество — тонкость. Внезапная бледность, окаменевание и искривление его лица связаны с тем процессом, в котором обнаруживается основная, мало того — единственная черта его природы: тонкий «съежился, сгорбился, сузился…» (II, 251), т. е. тонкий становится еще тоньше. Этому процессу подвергнуты и те предметы и лица, на которых выявляется общее семейное качество тонких: «Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились… Длинный подбородок жены стал еще длиннее; Нафанаил вытянулся во фрунт». И речь тонкого проявляет его исконное качество. Другом детства толстый является уже не безоговорочно: «друг, можно сказать , детства». На смену многоречивости пришло раболепное заикание. Выступавший в первой фазе самоуверенно, тонкий теперь употребляет частицу «-с» и хихикает, выражая при помощи фонической иконичности все то же качество тонкости: «Хи–хи–с».
После осознания различия чинов эквивалентность приятелей принимает двойственную форму. Если поведение тонкого определяется одним лишь различительным признаком ранга, то толстый продолжает настаивать на связывающем признаке. Он останавливает тонкого и «морщится» (это выражение неудовольствия создает в лексическом плане перекличку между его изменением и преобразованием чемоданов, узлов и картонок тонкого, которые «поморщились»). Задетый раболепием тонкого, толстый подтверждает ту дружбу детства, на которую до сих пор ссылался тонкий: «Мы с тобой друзья детства — и к чему тут это чинопочитание!», и он делает это без оговорок, без каких бы то ни было «можно сказать».
Поскольку для тонкого дружба детства аннулирована, то он считает двукратное представление жены и сына недействительным, как будто не произошедшим. В третий раз их представляя (сначала сына и затем жену: «Это вот, ваше превосходительство, сын мой Нафанаил… жена Луиза, лютеранка, некоторым образом…»), он даже не повторяется, а представляет свою семью в первый раз, в совершенно измененном мире, в этот раз не другу детства, а начальству. [466]
Снятие изначального сходства, произошедшее в сознании тонкого, связано с «перевзвешиванием» героев. В заключительном предложении «Все трое были приятно ошеломлены» сходство, основывающееся на внутреннем потрясении, сдвинуто. Оно связывает теперь уже не друзей детства, а людей и вещи, ставших одинаковыми на чашке весов тонкого. [467]Таким образом, новелла кончается сюжетным каламбуром: даже вместе с женой, сыном, чемоданами, узлами и картонками тонкий оказывается легче весом, чем толстый.
За сходством предложений скрывается сдвиг семантики. «Приятно ошеломлены» были толстый и тонкий ввиду внезапного появления друга детства, «приятно ошеломлены» трое тонких ввиду их внезапного столкновения с высоким чином. [468]Тонкий остается «приятно ошеломленным» несмотря на смену основополагающих признаков.
В богатом рисунке эквивалентностей этого рассказа важна еще одна особенность. Благодаря многократному упоминанию дружбы детства эквивалентность между толстым и тонким приобретает онтогенетическую основу. В школьные годы толстый, как вспоминает тонкий, «казенную книжку папироской прожег», а он сам «ябедничать любил». Эта оппозиция активизирует дальнейшие признаки. Она указывает на то, что толстый нарушает законы, а тонкий, уверовавший в авторитеты, ищет доверия начальства. Онтогенетическая точка зрения показывает также, что толстый и тонкий толстым и тонким не стали , но всегда уже были . Это исключает всякую возможность условной социальной мотивировки, оправдывающей развитие характеров общественной обстановкой. Чехов дает понять: толстый и тонкий не развивались. Это не способные к развитию или изменению характеры, а типы, архетипы — толстый и тонкий. На их филогенетическую предысторию указывают прозвища гимназических лет, о которых напоминает тонкий. Герострат — прозвище, которым товарищи дразнили толстого — был известный поджигатель, который в 356 г. до н. э. сжег храм Артемиды Эфесской, одно из семи чудес света, чтобы обессмертить свое имя, и его имя стало впоследствии синонимом честолюбца, добивающегося славы любой ценой. Эфиалът был грек, который в 480 г. до н. э. в бою под Фермопилами «предал, — как пишет Чехов в другом месте (I, 155), — персам отечество». Намек на эти отрицательные генотипы нейтрализует аксиологическую оппозицию между фенотипами, представленными в чеховском рассказе. Толстый, по всей вероятности, обнаруживал в своей карьере не только ту уверенную приветливость, с которой он успокаивает тонкого, и, пожалуй, не всегда выражал то презрение к подхалимству, которое заставляет его отвернуться от друга детства. Сходство в отрицательном, которое имеется как между античными генотипами, так и между русскими гимназистами, снимает тот этический контраст, который существует, как кажется, между взрослыми чиновниками.
Читать дальше