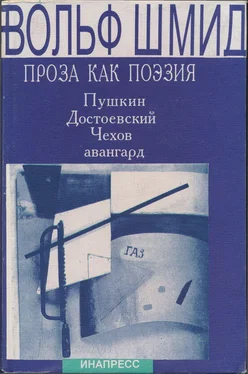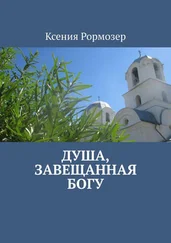На другое, весьма прямое предостережение Германн также не обращает внимания. Живая графиня, принужденная им выдать свою тайну, говорит ему единственные и последние свои слова: «Это была шутка, клянусь вам! это была шутка!» (241). После слов «случай», «сказка», «порошковые карты» — это четвертое и несомненно самое убедительное объяснение анекдота Томского. Не должна ли была тайна трех карт в большом свете скрыть другую тайну, а именно любовную связь графини с Сен–Жерменом? Такая связь по крайней мере подсказывается симметрией действий. Муж, против своего обыкновения взбунтовавшись, начисто отказал раздевающейся в это время графине заплатить ее проигрыш. Графиня дала ему пощечину и легла спать одна. Разве не могла щедрость Сен–Жермена, к помощи которого графиня прибегает, вызвать противоположную реакцию «московской Венеры»?
То, что тайна трех карт не что иное, как шутка, кажется несовместимым с тем фактом, что графиня называет их Чаплицкому. Но имеются два фактора, смягчающих или даже снимающих очевидное противоречие. Во–первых, и в этом случае тайна трех карт могла заместить тайну другого рода. Что побудило графиню, «которая была всегда строгая к шалостям молодых людей» (229), «как‑то сжалиться» над Чаплицким, проигравшим около трехсот тысяч? Какими, если не эротическими мотивами, можно объяснить это «как‑то»? [254]Во–вторых, жанр и его нарративный контекст бросают тень на правдоподобность эпизода с Чаплицким. Между тем как Томский рассказывает о выигрыше бабушки, не ссылаясь на источники и свидетелей, история о выигрыше Чаплицкого принадлежит дяде Томского, графу Ивану Ильичу. Читателю ничего о дяде не сообщается, кроме того, что тот считает нужным «уверить» слушателей «честью» (229) в истинности случившегося. Кроме того, история о выигрыше Чаплицкого вплоть до отдельных деталей слишком уж похожа на историю о выигрыше графини, чтобы было исключено дублирование первого эпизода вторым или подражание того и другого эпизода общему образцу историй о сказочном счастье игроков.
Все названные аргументы, казалось бы, подтверждают правдивость графини, говорящей о шутке, и ставят существование тайны трех верных карт под сомнение. Но, с другой стороны, нельзя не заметить мотивов, отрицающих правдивость графини и тем самым свидетельствующих в пользу реальности чудесного. К ним принадлежит упоминание о другом жанре бытового рассказа. Когда молодая графиня появляется в Версале, не оплатив своего предыдущего карточного долга, она «в оправдание [сплетает] маленькую историю» (229). Это указывает, во-первых, на то, что она в случае надобности всегда находит отговорку (что релятивизирует ее ссылку на «шутку»), во–вторых, на то, что она от Сен–Жермена не получила денег.
Но на вопрос, в чем точно состоит тайна, ответа не дает ни анекдот Томского, ни новеллт Пушкина. Таким образом, новелла заставляет нас колебаться между магическим «за» и реалистическим «против», или, говоря на языке фараона, между правой и левой сторонами, на которые банкомет Пушкин кладет свои карты перед читателем. Однако сорвать банк автора, т. е. вырвать у новеллы ее окончательный смысл нам, жадным понтерам, вряд ли удастся.
*
Говоря о шутке, графиня упоминает игривый жанр светской коммуникации, вполне соответствующий жанру анекдота. То, что анекдот Томского и шутка графини по содержанию противоречат друг другу, в речевой сфере светского общения большой роли не играет. Маленькая история, сплетенная графиней в Версале, и слухи о Германне как о побочном ее сыне, распространенные «близким родственником покойницы», также указывают лишний раз на неопределенную референтность светской коммуникации. Но такая относительность, несущественность обозначаемой реальности чужда разночинцу Германну. Инженер настолько уже убежден в несомненной реальности чудесного, что не допускает возможности отрицания магии: «Этим нечего шутить» (241).
Германн настолько сосредоточивается на референтности дискурсов, что пренебрегает их модальностью и их прагматикой. Именно в этом смысле следует понимать слова рассказчика, что «две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе», что «тройка, семерка, туз — скоро заслонили в воображении Германна образ мертвой старухи» (249). В этом же заключается тонкая месть графини. Называя Германну три верные карты, мертвая графиня побуждает его к исключительной сосредоточенности на референтности ее слов. Такой дар является тапичным мотавом сказки — это дар, который, если его неправильно употребить, приводит не к счастью, а к гибели. Германн употребляет дар графини не так, как следует, потому что он овеществляет коммуникат, пренебрегая прагматикой, т. е. не думая ни о дарителе, ни о ситуации.
Читать дальше