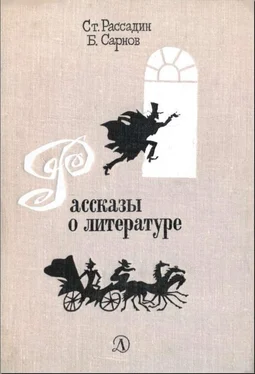Потому что он не заставлял своего героя насильно делать то, что тому было не по душе. Наоборот, он во всем слушался своего героя, шел за ним. Он как бы позволил герою совершить то, что тот, может, и хотел бы совершить, но на что в жизни у него недостало смелости.
Да, в жизни немой Андрей радостно мычал, утешаясь подаренной ему десятирублевкой. Но разве он не страдал, когда по приказу барыни топил собаку?
Конечно, страдал! Просто его жалость к Муму и негодование, вызванное самодурством госпожи, пока что оказались куда слабее, чем прочно въевшаяся в душу привычка к покорности и рабству. Но ведь и жалость, и негодование уже были! Не могли не быть!
Нет, все-таки мы были не совсем правы, когда говорили, что Андрей, о котором рассказала в своих воспоминаниях Житова, и Герасим, описанный в повести Тургенева, — это два разных человека.
На самом деле это, конечно, один и тот же человек. Только увиденный и описанный разными людьми. И по-разному понятый.
Тургенев описал в своей повести того самого человека, о котором рассказала Житова. Но он гораздо лучше, чем Житова, понял, что творилось у него на душе. И поэтому он описал его гораздо правдивее, чем Житова.
Но тут мы с вами должны хорошенько условиться, какой смысл мы вкладываем в это, казалось бы, такое простое и ясное, такое однозначное понятие — правда.
Был в России прошлого века такой литератор — граф Соллогуб. А у него был лакей Иван.
Соллогуб прославился своей повестью «Тарантас»; она и сейчас еще переиздается. И Иван тоже прославился, тоже оставил в литературе след — только не повестью, не романом и не поэмой, потому что был малограмотен и ничего не сочинял.
Дело в том, что у графа был такой обычай. Принесут ему, бывало, новинку из книжной лавки, он ее перелистает и, если увидит, что она глуповата и ему, графу, читать ее не интересно, тотчас кличет своего Ивана:
— На, Ванька, возьми! Это твоя литература!
Тем и прославился соллогубовский лакей. Так и вошло в обиход это выражение: «Ванькина литература». То есть такая, что годится не для людей просвещенных, а просто для «людей», как называли помещики своих дворовых.
Очень многие в ту пору так вот и воспринимали понятие «народная литература». Это, дескать, литература для народа. А поскольку народ в массе своей был неграмотен и темен, то и выходило, что считаться народным писателем не только не почетно, а даже унизительно.
Писатель для Ваньки-лакея — чем же тут гордиться?
Вы, наверное, помните, как страдал от народной темноты Николай Алексеевич Некрасов. Как он мечтал о том времени, когда и крестьянин сможет читать настоящие книги:
Когда мужик не Блюхера
И не милорда глупого —
Белинского и Гоголя
С базара понесет...
Блюхер — знаменитый прусский фельдмаршал, чьи портреты печатались тысячами и бессмысленно красовались на стенах крестьянских изб, а «Английский милорд Георг» — дурацкая книжонка, самый что ни на есть характернейший образчик «Ванькиной литературы».
Со временем менялся и сам народ, и литература для него. Мужик мало-помалу овладевал грамотой, выдвигал из своей среды талантливейших самородков, и, между прочим, большую роль тут сыграли замечательные русские просветители. Они стали организовывать издания «для народного чтения», и крестьянин в самом деле стал нести с базара уже не только глупые анекдоты и пустые приключения, а сочинения Пушкина, Гоголя, Крылова, Льва Толстого...
Правда, и эти издания были пока что еще... ну, урезанными, что ли. Из Пушкина выбирались все-таки не «Онегин» и не «Медный всадник», а сказки или «Буря мглою небо кроет». То, что попонятнее. Из Гоголя не «Нос» или «Мертвые души», а «Вий» или «Сорочинская ярмарка». Лев Толстой — тот вообще специально писал для народа, придумывая сюжеты попроще и выбирая слова подоступнее.
А еще долгое время бытовала уверенность, что «народное» — это только то, что « про народ ». По этой логике получалось, что «Муму» Тургенева — произведение народное. (Главный герой — человек из народа.) А вот, скажем, «Дворянское гнездо» или «Рудин» — уже не народное: какая же тут народность, если все герои помещики да дворяне!
Иногда слово «народное» понималось как национальное. То есть прилагалось к произведениям, написанным об истории народа, об обычаях его. Под эту рубрику из всех произведений великой русской литературы попадут тоже лишь очень немногие. Ну вот, скажем, «Снегурочка» А. Н. Островского. Сказки. Да и то не все. Даже насчет «Руслана и Людмилы» тут могут возникнуть кое-какие сомнения. Например, страшный карла Черномор — это ведь фигура не из русского фольклора, ни в одной русской сказке такого нету.
Читать дальше