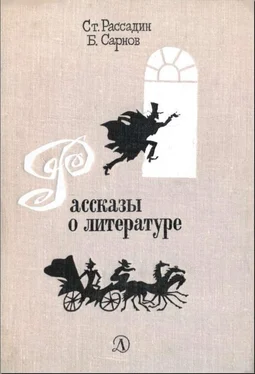Нет, «другую пьесу» Акимов не написал. Он не вложил в уста героев трагедии Шекспира, в уста Гамлета или Офелии, ни одного своего слова. Он лишь прочел эту старую пьесу по своему, не так, как ее читали до него. И более того! Это свое прочтение шекспировской трагедии сам он считал единственно правильным!
Взять хотя бы шутку с мнимым призраком. Ведь Акимов ее не просто выдумал. Она родилась у него не из озорства, а после серьезных размышлений, после долгого изучения и текста самой трагедии, и книг, написанных современниками Шекспира.
Если помните, Гамлет у Шекспира произносит монолог:
— Мы откармливаем всех прочих тварей, чтоб откормить себя, а себя откармливаем для червей. И жирный король, и сухопарый нищий — это только разные смены, два блюда, но к одному столу: конец таков... Человек может поймать рыбу на червя, который съел короля, и поесть рыбы, которая питалась этим червем... Король может совершить путешествие по кишкам нищего...
Акимов резонно решил, что человек, рассуждающий таким образом, вряд ли может верить в загробную жизнь и в существование призраков. Он стал читать книги тех философов и мыслителей, на которых воспитывался и учился Гамлет. Прочел сочинения Эразма Роттердамского. Нашел у него сходные рассуждения. И там же, в сочинениях Эразма, нашел описание того, как два свободомыслящих молодых человека устроили веселый розыгрыш: инсценировали появление духов, чтобы напугать своего знакомого священника, который до смерти этих духов боялся.
Да и то, что Акимов превратил трагедию Шекспира чуть ли не в комедию, тоже не было результатом озорства или недомыслия. Это было сделано совершенно сознательно.
Акимов рассуждал так: во времена Шекспира понятие «трагедия» значило не совсем то, что в наше время. Теперь мы стали связывать со словом «трагедия» представление о чем-то исключительно грустном, говорил он. А в ту эпоху в трагедии чередовались комизм и грусть. Не случайно ведь в том же «Гамлете» так много смешного. Смешны могильщики, смешон Полоний, смешон вертлявый придворный Озрик. Почему бы и Гамлету временами не выглядеть если и не смешным, то веселым?..
Короче говоря, как бы ни перегибал палку Николай Акимов, делал он это с совершенно серьезной целью. Он хотел постичь смысл пьесы Шекспира. Ее главный, глубинный, потайной смысл.
И пусть он его не нашел, пусть мы с вами решительно не согласимся с акимовским представлением о «Гамлете», так или иначе мы не можем отказать Акимову в том, что его поиски был и именно поисками смысла.
Свой смысл был в каждом из тех Гамлетов, о которых мы вам рассказывали. Во всяком случае, каждый из них появился на свет неспроста: для этого были очень серьезные причины.
В мрачные времена, когда люди потеряли веру в то, что мир можно изменить, появился Гамлет, всем своим поведением утверждавший, что бороться с мировым злом не имеет смысла. Любая борьба кончится тем, что ты погибнешь, а зло все равно будет торжествовать.
Тургенев и его единомышленники верили в то, что со злом надо бороться. Чем бы ни кончилась эта борьба! даже если не осталось ни малейшей надежды на победу! Отсюда и возникла неприязнь Тургенева к сомневающемуся, колеблющемуся, бездействующему Гамлету.
Советский режиссер Николай Акимов поставил свой спектакль в те времена, когда считалось, что старая трагедия Шекспира, как тогда говорили, «несозвучна нашей эпохе». Эпоха требовала пьес, в которых утверждалась бы вера в конечную победу тех, кто хочет изменить мир. Перечитав Шекспира, Акимов увидел, что Гамлет ненавидит зло, мечтает о справедливости. Вот он и решил превратить Гамлета в борца, чуть ли не революционера.
Были и другие, еще более наивные попытки перетащить Гамлета на свою сторону, приспособить его к своим целям.
Один критик, например, утверждал, что Гамлет олицетворяет душу немецкого народа. Другой пытался доказать, что Гамлет действительно олицетворяет душу народа — но только не немецкого, а польского. В конце XIX века нашелся даже такой английский писатель, который доказывал, что Гамлет — это Христос, а Офелия — церковь Христова. И смысл пьесы — в их грядущем соединении.
Некоторые писатели не останавливались даже перед тем, чтобы переделать великую шекспировскую пьесу по-своему.
Русский поэт Сумароков, живший в XVIII веке, приделал «Гамлету» благополучный конец, завершив пьесу бракосочетанием Гамлета и Офелии.
Четыреста лет — срок огромный. И не мудрено, что каждая эпоха пыталась найти в великой трагедии Шекспира именно тот смысл, который ее больше устраивал.
Читать дальше