Вот какой ночью оплачена наша: не оплакав ее, не заснуть. Вы скажете: как это — терпеть во имя Христа без понятья о Боге, и причем тут права человека?
Но в такой непроницаемой темноте ирония неуместна. Вы, чего доброго, спросите: не чересчур ли смел такой прыжок — из ночной постели в подземную тюрьму? разве наслаждения, подразумеваемые тут, недоступны угнетенным классам? Но это бестактный вопрос. Вы скажете, пожалуй, что тут мысль самого общего пользования, растравляя себя до слез, только притворяется — в частности, сама перед собой — чувством, притом интимным? Какая разница: подобные, с вакансией для героя, чувства прочней овладевают умами, отменяя привычку жить, а потом — потом все залито кровью читателей.
Какой образ действий не бесчестен в России? Разумеется — только гибель, разумеется — бесполезная. Поймите же: мы резвимся в аду, в особенном аду — для невинных, для незрячих. Пока виновные, то есть все, кто хоть что-нибудь видит, — словом, пока все мы не пожертвуем собой — они не прозреют. Итак, смерть нам! И не просто смерть — позорную казнь, — лишь тогда умрешь недаром. И не надейтесь — у одним поколением не обойтись. Пусть каждая порядочная женщина объяснит своим детям:
Есть времена, есть целые века,
В которые нет ничего желанней,
Прекраснее — тернового венка…
— Но позвольте, г-н Некрасов! Сами вы, кажется, предпочитаете шапку из необыкновенно седого бобра? Что же получается: ступайте, мальчики, ниспровергать государственный строй, а мне пора на охоту — или, того лучше, в Английский клуб — Вешателя задабривать одой?
Этим и подобным вздором терзали его всю жизнь. Муравьевская ода, огаревское имение, Белинского альманах, Панаева карета… Стихи-то при чем? В них — убеждения; где сказано, будто честные мысли дозволяются только добродетельному человеку? Стало быть, и подвигу не сочувствуй, раз не герой? Допустим, что так, допустим, — но где их взять несчастной Родине — героев-то и добродетельных людей — среди взрослых? Так что же — покинуть ее на произвол властей, задушив Музу собственными руками?
А подлости эти так называемые… Иная подлость, да будет вам известно, не легче подвига — мертвым завидуешь, право.
Не рыдай так безумно над ним,
Хорошо умереть молодым!
Беспощадная пошлость ни тени
Положить не успела на нем,
Становись перед ним на колени,
Украшай его кудри венком!
В тюремном заключении Писарев оплешивел — впрочем, и до ареста не было у него кудрей. Утопленника в двойном гробу венок не украсит, и на колени г-жа Марко Вовчок не падала, вообще на похороны не пришла. И если действительно рыдала безумно — то навряд ли при Некрасове.
Перед ним преклониться не стыдно,
Слишком многие пали в борьбе —
Сколько раз уже было тебе
За великое имя обидно!
Речь лукавая — над свежей могилой, в сущности, неприличная: радуйся, мол, что умер прежде, чем предал; что сберег имя.
А теперь его слава прочна:
Под холодною крышкою гроба
На нее не наложат пятна
Ни ошибка, ни сила, ни злоба…
Оратор лучше всех понимает, что зарапортовался (не забыть потом извиниться перед М. А — рыдает она, не рыдает, — все же родственница покойного и стихотворение как бы к ней: «Вы понимаете, так написалось»):
Не хочу я сказать, что твой брат
Не был гордою волей богат…
Как назло, и слог не подчиняется — но пункт назначения уже вот он, рукой подать:
Но, ты знаешь, кто ближнего любит
Больше собственной славы своей,
Тот и славу сознательно губит,
Если жертва спасает людей.
Ясней не скажешь, но точно ли поняли? Перестанут ли, наконец, презирать — глупые, жестокие юнцы! — за проклятую муравьевскую оду, за злосчастный мадригал… Хорошо хоть, не знают — в свое время каким-то чудом никто не заметил, а теперь уж никто не найдет — ужасной этой фразы в «Современнике» сорок девятого года: про Достоевского — что не большие мы охотники до его так называемых психологических повестей. Сорок девятый, страшный год, сентябрь, не охотники мы в равелин… Еще узнаете и вы, как празднуют трусу, хлебнете ледяного кипятку!
Но у жизни есть мрачные силы —
У кого не слабели шаги
Перед дверью тюрьмы и могилы?
Писарев, между прочим, в каземате храбрые статьи писал — и стихами Некрасова, кстати, восхищался, пренебрегая тем, что «Современник» его дразнил, как сумасшедшего на цепи… Но причем тут Писарев? Стихи разве о нем? Ему-то хорошо — умер молодым, вовремя умер.
Читать дальше
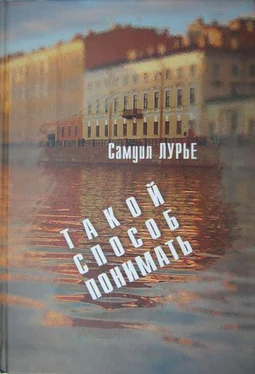





![Самуил Лурье - Полное собрание рецензий [litres]](/books/407219/samuil-lure-polnoe-sobranie-recenzij-litres-thumb.webp)


