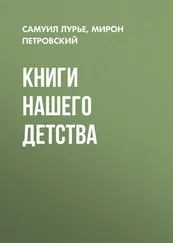Вот что значит эпиграф «В ту пору лев был сыт, хоть с роду он свиреп». Роман явно спорит с историей.
Двадцать четвертого февраля для Гринева опять начинается сюжетное, наполненное роковыми событиями, действенное время. Он попадает в Бердскую слободу, отправляется с Пугачевым в Белогорскую крепость, увозит оттуда Марью Ивановну. И так два дня, почти три главы — до нового затемнения, или, вернее, до нового перехода на общий панорамный план, с уже знакомой нам оговоркой: «Не стану описывать нашего похода и окончания войны».
Пять абзацев главы «Арест» включают семь месяцев. Получено известие «о поимке самозванца» — стало быть, сентябрь 1774 года перевалил за середину. И вот еще одна роковая минута — столь неожиданная и страшная, что спокойное «однажды» уступает место драматическому «вдруг»:
«Вдруг неожиданная гроза меня поразила. В день, назначенный для выезда, в самую ту минуту, когда готовился я пуститься в дорогу, Зурин вошел ко мне в избу, держа в руках бумагу …»
Сутки лишь осталось Гриневу действовать в сюжете. К вечеру доставляют его в тюрьму, на другой день допрашивают — и сюжетное время остановилось для него.
Но повесть не кончена, и участь героя не решена. Через несколько недель опять перед нами — гостиная в доме Гриневых. На дворе еще одна осень, октябрь. Точно так же, как и два года назад, когда повесть только начиналась, Андрей Петрович листает «Придворный календарь». А в знак того, что судьба Гринева-младшего довершила второй виток и опять, как и год назад, находится в перигее, Пушкин прибегает к испытанному (см. выше) приему — повторяет текст, некогда дышавший счастьем, — в состарившемся отражении:
«Однажды вечером батюшка сидел на диване, перевертывая листы Придворного календаря; но мысли его были далеко, и чтение не производило над ним обыкновенного своего действия. Он насвистывал старинный марш. Матушка молча вязала шерстяную фуфайку, и слезы изредка капали на ее работу».
Опять, как и год назад, необходимо, чтобы в сюжет властно вмешалось новое лицо. И Марья Ивановна едет к Екатерине Второй.
По расчету времени видно, что в Царское Село она прибывает не ранее октября. Но в Екатерининском парке — ранняя осень: «Солнце освещало вершины лип, пожелтевших уже под свежим дыханием осени». Императрица, которой не холодно в душегрейке поверх утреннего платья, говорит Марье Ивановне: «Дело ваше кончено», а между тем Гринев был освобожден из заключения лишь «в конце 1774 года по именному повелению». Даты противоречат друг другу, правдоподобие колеблется…
Гринев присутствовал при казни Пугачева — 10 января 1775 года. Видимо, в ближайшие же дни он навестил в Москве Александра Петровича Сумарокова и показывал ему свои стихи. А может быть, знаменитый поэт «очень похвалял» лирику Гринева в другой раз? Тогда, значит, Петр Андреевич наведался в столицу уже после женитьбы, но не позднее 1 октября 1777 года (дата смерти Сумарокова). Наконец, нам известно, что записки свои Гринев сочинял в «кроткое царствование императора Александра» — кажется, судя по эпитету и некоторым другим признакам, до начала войны с Наполеоном. Стало быть, по расчету Пушкина, они написаны в первые годы XIX века, когда Петру Андреевичу Гриневу было под пятьдесят, старшему из десяти его детей — под тридцать, а самому Пушкину — лет пять.
Листая календарь «Капитанской дочки», мы видим, что простодушное повествование Гринева подчиняется хитростям Пушкина. Автор играет историческими фактами, как и судьбами своих героев, но играет словно бы сам с собой, не позволяя нам участвовать, хотя и намекает, что в игре есть смысл, о котором рассказчику не догадаться.
5
Два имени остановили внимание Пушкина в сентенции Сената по делу Пугачева.
«… 8) Поручика Михаила Швановича [8] В документе — так. Но Пушкин называет его — Шванвич.
, за учиненное им преступление, что он, будучи в толпе злодейской, забыл долг присяги, предпочитая гнусную жизнь честной смерти, лишив чинов и дворянства, ошельмовать, переломя над ним шпагу.
… 10) Отставного подпоручика Гринева, царицынского купца Василья Качалова да брянского купца Петра Кожевникова (перечисляются еще восемь человек. — С. Л. )… которые находились под караулом, будучи сначала подозреваемы в сообщении с злодеями, но по следствию оказались невинными, для чего их и освободить…»
Строя план романа, Пушкин сперва пытался совместить оба эти жребия: чтобы герой изменил, как Шванович, но был помилован, как Гринев.
Читать дальше
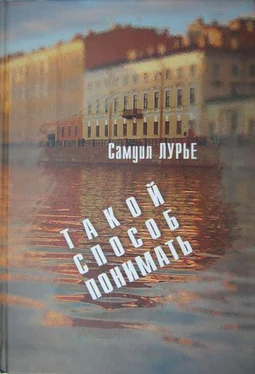

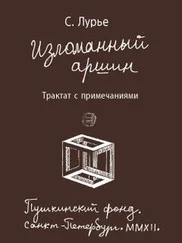


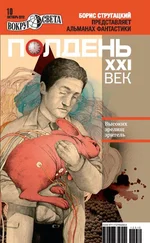
![Самуил Лурье - Полное собрание рецензий [litres]](/books/407219/samuil-lure-polnoe-sobranie-recenzij-litres-thumb.webp)