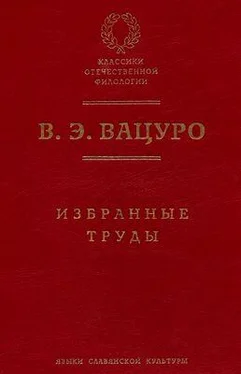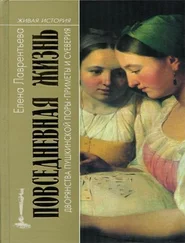Зачем, о Делия! сердца младые ты
Игрой любви и сладострастья
Исполнить силишься мучительной мечты
Недосягаемого счастья?
Я видел вкруг тебя поклонников твоих,
Полуиссохших в страсти жадной…
Понимал ли он теперь, что это — сбывшееся пророчество?
Даже если эта мысль и приходила ему в голову, то она не могла помешать включить стихи в сборник. «Делия» больше не была реальной Софьей Дмитриевной Пономаревой; это было не живое тело, а скульптурный портрет, изваянный рукой художника.
Для «Смеси» он отобрал «К …о» («Приманкой ласковых речей…»), «К жестокой», «В альбом» («Вы слишком многими любимы…») — те самые стихи, которые он записывал Лутковской: другое переадресованное стихотворение: «Л-ой» («Когда неопытен я был…») и послание «Д<���ельви>гу» («Я безрассуден, и не диво») — об обманщице, ласковой шалунье, данной ему судьбой. В «Смеси» менялся образ. Поэт очень точно отобрал стихи, которые подарил Лутковской, — ни одно из оставшихся переадресовать было нельзя. В них жило существо неудержимо привлекательное, проказливое и жестокое, коварное и нежное, несущее счастье и страдание. И два стихотворения он включил в «Послания»: «О своенравная София», — конечно, как и ранее, заменив «Софию» на «Аглаю», — и «К …» («Мне с упоением заметным»). По этим стихам также прошлась рука художника; они словно созрели до абсолютной точности слова:
Я захожу в ваш милый дом,
Как вольнодумец в храм заходит.
Душою праздный с давних пор,
Еще твержу любовный вздор,
Еще беру прельщенья меры,
Как по привычке прежних дней
Он ароматы жжет без веры
Богам, чужим душе своей.
«Милый дом». Эта тема есть в обоих посланиях. Владычица сердец, не кокетка, не обольстительница, но хозяйка веселых вечеров, где говорят свободно и свободно себя чувствуют; предмет дружбы-любви, amitiй amoureuse. Это был третий облик единой женщины.
И он был самым живым из всех в силу самой природы послания, удерживающего быт, мелочи, отношения.
«Смех и шум» пономаревских собраний врывался в литературу, как сквозь внезапно открытую дверь.
* * *
И шум журнальных полемик, лишь недавно затихших, тоже доносился со страниц «Стихотворений Евгения Баратынского».
Раздел «Послания» начинался той самой сатирой «К Гнедичу…», которую цензор Бируков не пропустил в «Полярную звезду»; сатирой, где были выведены Измайлов, Панаев, Сомов, Цертелев, Яковлев и Борис Федоров. Из всех них осталось в сатире только двое:
Когда в отечестве все тихо и спокойно,
Одни писатели воюют непристойно!
Сказать Аркадину: не Музами тебе
Позволено свирель напачкать на гербе;
Сказать Паясину: болтун еженедельный!
Ты сделал свой журнал Парнасской богодельной
И в нем ты каждого убогого умом
С любовию даришь услужливым листком.
Меж тем иной из них, хотя прозаик вялый.
Хоть жалкий рифмоплет, душой предобрый малый.
Шутилов, например, знакомец давный мой.
В журнале пошлый шут, ругатель площадной,
Совсем печатному домашний не подобен.
Он милый хлебосол, он к дружеству способен,
В свой именинный день, вином разгорячен,
Целует с нежностью глупца другого он;
Аркадин в обществе любезен без усилий
И верно, во сто раз милей своих идиллий [313] Баратынский Е. А. Стихотворения. М., 1827. C.▫143.
.
«Паясин», «Шутилов». В них мог бы узнать Измайлова разве тот, кто знал о ранней редакции сатиры. «Благонамеренный» прекратил свое существование; сам издатель вице-губернаторствовал в Твери. На письменном его столе, рядом с портретом жены, стоял портрет С. Д. Пономаревой [314] Кубасов И. А. Вицегубернаторство баснописца Измайлова в Твери и Архангельске (с 1827 по 1829 г.). СПб., 1901. C.▫6.
.
«Аркадин» — Панаев узнавался безошибочно. И о нем же — об «идиллике новом» — говорила «Эпиграмма» в разделе «Смесь»:
Никак негодный он поэт?
— Нельзя сказать. — С талантом? — Нет;
Ошибок важных, правда, мало;
Да пишет он довольно вяло.
Более ни слова о нем, — прерывает Аполлон:
Из списков выключить — и только.
Это было новое стихотворение, — во всяком случае, оно впервые появилось в сборнике 1827 года [315] Баратынский Е. А. Стихотворения. C.▫91.
.
Все споры, неудовольствия, полемики отошли в прошлое. Вражда к Панаеву осталась, — если не усилилась.
Здесь нам понадобится экскурс в сторону.
* * *
В то время, когда Баратынский готовил свой сборник к изданию, в Москве явился освобожденный из ссылки Пушкин. С осени 1826 года возобновляется их знакомство и становится «короче прежнего», как будет вспоминать Баратынский два года спустя. Их видят вместе в публичных собраниях; Баратынский вводит его в круг своих друзей; они бывают в одних и тех же литературных кружках и, случается, вместе выступают в литературных полемиках.
Читать дальше