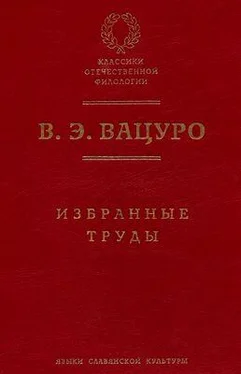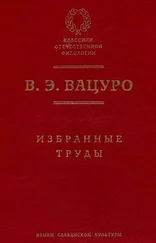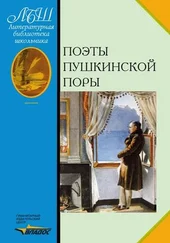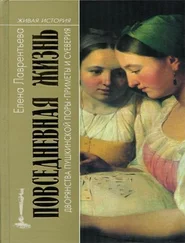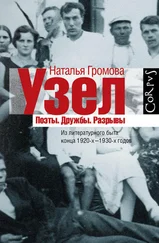Но они появились в «Северных цветах на 1826 год» рядом с эпитафией, которую Дельвиг посвятил памяти женщины-ребенка, разбившей жизнь, как игрушку.
Быть может, соседство это было случайным. А может быть, Дельвиг, располагавший стихи в альманахе, решил, что это эпитафия тому же лицу? Название «Надпись» могло поддержать такое предположение.
Еще в прошлом альманахе он напечатал посвященные ей стихи Измайлова и эпитафию Гнедича, с которой, как мы знаем, была связана и его собственная эпитафия в книжке на двадцать шестой год. Это была дань памяти, приносимая осторожно, без шума, — только для тех, кому имя Пономаревой что-то говорило. В конце 1825 года он должен был соблюдать особый такт: он женился 30 октября, после полугодового знакомства и сильного увлечения, на Софье Михайловне Салтыковой. Это было глубокое чувство, и, как и у Баратынского, оно должно было сильно сгладить, если не стереть, прежние любовные привязанности. При всем том он рассказывал, как мы знаем, молодой жене о «некоей Софье Дмитриевне, которая уже давно умерла», и о своей прежней, давно угаснувшей, любви к ней, — и жена ревновала. Она была, кажется, в чем-то похожа на Софью Дмитриевну, — и именем, и живостью нрава, и даже сменяющимися увлечениями, — случайно ли это сходство?
Он все же помещает в «Северных цветах» свою эпитафию ей, сохраняя воспоминание только для себя. И рядом с ней — «Надпись» Баратынского.
В это время исторический шквал переворачивает все личные биографии и всю общественную жизнь.
* * *
Нельзя писать о восстании декабристов попутно, прослеживая историко-культурную судьбу имени вовсе не исторического, — и мы опустим здесь все, что известно любому читателю. Биографии людей, которые занимают нас сейчас, изменились резко; творчество их приобрело новые черты, — и менее всего их занимало теперь то салонное, игрушечное, бездумное, чем время от времени развлекались в годы их молодости. Людям тридцатых годов альбомный мадригал десятилетней давности казался литературным ископаемым — его просто не принимали всерьез и удивлялись, как серьезный поэт мог баловаться пустяками и, что хуже всего, печатать их. Элегии были не в чести — и уже не у эпигонов «Благонамеренного», — но сами элегики, и во главе их Пушкин и Баратынский, атакуют «жеманное вытье».
Не вышедший вовремя сборник стихов Баратынского вступил в новую эпоху.
После гибели Рылеева и осуждения Бестужева право издания купил Дельвиг и начал готовить книгу к печати вместе с Плетневым, в руки которого она постепенно перешла. Но Баратынский, выйдя наконец в отставку, поселился в Москве, — и Николай Полевой, с которым он сблизился в это время, стал третьим и подлинным издателем его сочинений.
В сборник включались произведения, написанные в последние годы; что-то из прежних выбрасывалось. Любовные элегии не должны были пострадать от политических катаклизмов, — но они пострадали от причин совершенно личных, не касавшихся до публики.
Баратынский женился — чуть позже Дельвига, в июне 1826 года.
«Для поэзии он умер, — писал с негодованием Соболевскому Левушка Пушкин, — его род, т. е. эротический, не к лицу мужу, и теперь из издаваемого собрания своих сочинений он выкидывает лучшие пьесы по этой самой причине» [312] Рус. архив. 1878. Кн. 3. C.▫397–398.
.
Это была последняя автоцензура. В 1827 году «Стихотворения Евгения Баратынского» вышли наконец в свет.
В сборнике, как и предполагалось, было три книги «Элегий», кроме того, «Смесь» и «Послания».
Во всех трех разделах Собрания находились стихи, посвященные Пономаревой.
Включенные во вторую и третью книги «Элегий», они оказались подчиненными общему лирическому сюжету. Баратынский, конечно, намеренно создавал его по примеру Парни. Естественно сложившийся некогда «цикл», отражавший перипетии его личных отношений с Софьей Дмитриевной, разрушился; создался цикл новый, и теперь уже тайные нити протягивались между стихами, не имевшими друг к другу никакого отношения. Их связывало одно: душевная биография героя. Из «пономаревских» стихов он выбрал «Размолвку», «Поцелуй» и «Делии». Первые два, как мы говорили, не принято было относить к Пономаревой, — и мы устанавливаем адресата гипотетически; третье посвящено ей несомненно.
Это стихи о призраке любовного счастья, исчезнувшем и обманувшем, о тайных причинах охлаждения героя к жизни и любовным утехам. Слабый абрис жестокой возлюбленной рисуется за строками «Размолвки»; в стихах «Делии» он получает плоть и кровь. Мы помним эти стихи; очищенные от случайного, длиннот, поэтических неточностей, они предстали в сборнике в прежнем и в то же время новом качестве. Обобщенный образ сохранил индивидуальные черты, — и, вероятно, впервые в русской элегии явился подобный.
Читать дальше