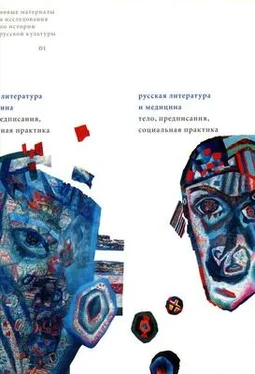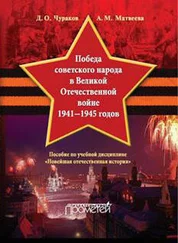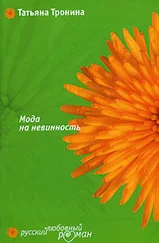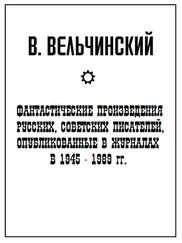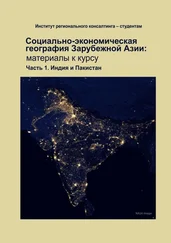В 1936-м начинает выходить журнал «Общественница», ориентированный на неработающих женщин — жен руководящих работников, инженеров и техников — и призванный включить эту социальную группу в общественно-полезную деятельность. Для него характерна новая стратегия построения общественно-политического издания для женщин: на смену образовывающим и поучающим тенденциям приходит убеждение через положительные примеры [Дашкова 2001:191–192]. С этим связано и складывание нового способа вербальной и визуальной репрезентации женщины, вобравшего в себя оба взаимоисключающих типа женской телесности — «артистический» и «рабоче-крестьянский». Это тип интеллигентной и элегантно одетой «простой» советской женщины [17] Примером такого типа женской телесности могут служить героини Л. Орловой из фильмов Г. Александрова: интеллигентная ткачиха-стахановка из финала к/ф «Светлый путь» и профессор Никитина из к/ф «Весна».
. Как правило, она изображается в «деловом» костюме (пиджак и юбка чуть ниже колена), чулки и туфли на невысоком каблуке; у большинства — короткие волосы, кокетливо уложенные «волнами», и подкрашенные губы. Что же касается журнального дискурса [18] Речь идет об общественно-политических изданиях, а не о журналах мод.
, то в нем присутствует поощрение эстетических тенденций как в «общекультурном» плане, так и в области моды: знакомство с произведениями живописи и литературы (печатание репродукций картин и рассказов или отрывков классической прозы) начинает сочетаться с прививанием и поощрением навыков в подборе одежды и умением ее носить. С журнальных страниц исчезает проблематика, связанная с чистотой одежды и тела, а с 1936 года (после закона о запрещении абортов) — с абортами и контрацепцией [19] Анализ культурно-просветительского дискурса об абортах см.: [Мерненко 1999: 151–165].
. Начинают ставиться вопросы, касающиеся элегантности и правильного подбора одежды, а также умения ухаживать за своим лицом и телом, т. е. осуществлять косметические, а не только гигиенические процедуры. В понятие «здоровье» начинает включаться не только внутреннее состояние организма (отсутствие болезней и их симптомов, вроде прыщей, сальных волос, излишней худобы/полноты), но и акцентирование внешних проявлений хорошего самочувствия (цвет лица, чистота кожи, блеск волос).
Произошедшие в этот период изменения можно зафиксировать и на уровне « производителя дискурса »: на смену «окультуривающему» дискурсу гигиенистов, научающему основным бытовым навыкам, приходит «эстетический» дискурс специалистов. На это изменение, столь показательное для культурной ситуации 1930-х годов, обращает особое внимание и О. Гурова. Она отмечает, что, «говорящими в текстах становятся эксперты в области эстетики быта, вещей, тела — „специалистка косметического кабинета“, „директор института красоты“, „директор треста ТЭЖЭ“, „художник“, а не физиологи и гигиенисты, как это было раньше». Одежда обсуждается «в контексте темы телесной эстетики, взамен контекста телесной гигиены » [20] Рукопись диссертации Гуровой «Советское нижнее белье как система вещей: социокультурный анализ» (гл. 2).
. Все это позволяет говорить о наступлении нового этапа как в истории советской культурной политики, так и в способах репрезентации моды.
Выше я обозначила журнальное пространство, внутри которого существовали и взаимодействовали различные понимания моды и женской телесности. Далее я рассмотрю формы взаимодействия трех дискурсивных практик — моды, политики, гигиены в женских и модных журналах конца 1920-х — начала 1930-х годов. Этот период представляется мне наиболее показательным прежде всего потому, что это время дискуссий о понятиях, разброда мнений и складывания идеологических представлений (которые к середине 1930-х годов уже отольются в нормативные идеологические клише). В мою задачу входит анализ форм и способов политизации модного дискурса. Я буду отталкиваться от следующих положений: если моду можно определить как сферу досуга, инновативности и демонстративности, то гигиена репрезентируется через идею полезности, закрепленную авторитетом науки. Политика в этой «связке» осуществляет функцию контроля и идеологического переформулирования положений моды, в том числе и посредством ее тестирования на гигиеничность.
Необходимо отметить, что проблематика моды и гигиены представлена в отмеченной периодике неравномерно: это касается как самих журналов, так и временных периодов. Так, наибольший интерес для меня представляют журналы конца 1920-х годов «Искусство одеваться» и «Женский журнал» [21] Кроме нашего специального интереса, они важны еще и как достаточно репрезентативные журналы: «Женский журнал» — до 12 номеров в год, тираж — до 50 тыс. экземпляров; «Искусство одеваться» — 12 номеров, до 100 тыс. экземпляров.
. Причем в первом доминируют сюжеты, связанные с модными тенденциями и отношением к ним (о чем свидетельствует само название): новости из мировых столиц моды, новинки отечественной моды и дизайна, история моды, модели одежды, выкройки, полезные советы. Во втором — больше внимания уделяется проблемам гигиены. Этот журнал претендовал на освещение значительно широкого спектра женских проблем (которые очень часто были опосредованы гигиенической проблематикой): «женские» аспекты политики, права женщин, вопросы любви, брака, детей, проблемы абортов и контрацепции, вопросы семьи и быта, модные тенденции, кулинарные рецепты, полезные советы. Важно отметить, что оба этих журнала перестали выходить к 1930 году. В этот период было закрыто большинство журналов мод. В других женских журналах — «уцелевших» («Работница», «Крестьянка», «Работница и крестьянка») и возникших во второй половине 1930-х годов («Общественница», «Моды», «Модели сезона») — интересующие нас сюжеты претерпели ряд изменений. Прежде всего, сошла на нет гигиеническая проблематика [22] Подробнее историю вопроса см.: [Плаггенборг 2000:75–124 (гл. 2: «Тело»)].
: исчезли материалы, посвященные личной гигиене, абортам, контрацепции и вообще всей «телесной» проблематике, а также обсуждение модных тенденций, в том числе и в плане гигиены. В 1930-е годы вопросы моды и гигиены были вытеснены в отдельные («профессиональные») локусы: о моде стали информировать несколько журналов мод («Моды», «Модели сезона»). В этих изданиях были представлены лишь модели одежды, выкройки и их нейтральные ( деполитизированные ) описания, а гигиенические нормы стали предметом рассмотрения исключительно специальной медицинской литературы.
Читать дальше