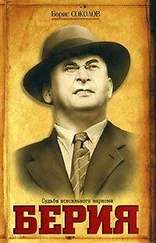„Тело одной русалки, — продолжал рассказчик, — не так светилось, как у прочих: внутри его виднелось что-то черное“. Черное пятно, страшная черная точка есть и в гоголевской „плоти“, в первозданной языческой стихии его веселости, его смеха. Это — точка соприкосновения двух начал, двух половин, двух полюсов мира, рождающая беспредельный мистический ужас. Уже, впрочем, и там, в самой Элладе, есть эта черная точка: и там, в тишине самого блаженного, самого ослепительного полдня раздается вдруг потрясающий крик, таинственный зов, „голос Пана“, от которого все живое бежит в сверхъестественном ужасе. Гоголю с детства знаком этот крик: „Признаюсь, мне всегда был страшен этот таинственный зов. Я помню, что в детстве часто его слышал: иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя. День обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный; ни один лист в саду на дереве не шевелился; тишина была мертвая; даже кузнечик в это время переставал кричать; ни души в саду. Но, признаюсь, если бы ночь, самая бешеная и бурная, со всем адом стихий, настигла меня одного, среди непроходимого леса, я бы не так испугался ее, как этой ужасной тишины среди безоблачного дня. Я обыкновенно тогда бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием из саду и только успокаивался, когда попадался мне навстречу какой-нибудь человек, вид которого изгонял эту страшную сердечную пустыню“ („Старосветские помещики“).
Этот непонятный „панический“ ужас объяснился в тот день, когда родился Христос и умер великий Пан. В конце язычества есть начало христианства; в конце земного — начало небесного, в конце плоти — начало того, что за плотью».
Н. А. Бердяев в статье «Духи русской революции» (1918) заявил: «Гоголь — единственный русский писатель, в котором было чувство магизма, он художественно передает действие темных, злых магических сил…
У Гоголя было совершенно исключительное по силе чувство зла. И он не находил тех утешений, которые находил Достоевский в образе Зосимы и в прикосновении к матери-земле. Нет у него всех этих клейких листочков, нет нигде спасения от окружавших его демонических рож… Гоголю не было дано увидеть образов добра и художественно передать их. В этом была его трагедия. И он сам испугался своего исключительного видения образов зла и уродства».
По мнению Н. А. Бердяева, «Гоголь, как художник, предвосхитил новейшие аналитические течения в искусстве, обнаружившиеся в связи с кризисом искусства. Он предваряет искусство А. Белого и Пикассо. В нем были уже те восприятия действительности, которые привели к кубизму. В художестве его есть уже кубистическое расчленение живого бытия. Гоголь видел уже тех чудовищ, которые позже художественно увидел Пикассо. Но Гоголь ввел в обман, так как прикрыл смехом свое демоническое созерцание».
Н. А. Бердяев даже утверждал, что «Гоголь — инфернальный художник. Гоголевские образы — клочья людей, а не люди, гримасы людей. Не его вина, что в России было так мало образов человеческих, подлинных личностей, так много лжи и лжеобразов, подмен, так много безобразности и безобразности. Гоголь нестерпимо страдал от этого. Его дар прозрения духов пошлости несчастный дар, и он пал жертвой этого дара. Он открыл нестерпимое зло пошлости, и это давило его».
В. В. Розанов, самый суровый из всех русских критиков Гоголя, в своей работе «Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского» (1891–1894) утверждал: «Известен взгляд, по которому вся наша новейшая литература исходит из Гоголя; было бы правильнее сказать, что она вся в своем целом явилась отрицанием Гоголя, борьбою против него… Свое главное произведение он назвал „Мертвые души“ и, вне всякого предвидения, выразил в этом названии великую тайну своего творчества и, конечно, себя самого. Он был гениальный живописец внешних форм и изображению их, к чему одному был способен, придал каким-то волшебством такую жизненность, почти скульптурность, что никто не заметил, что за этими формами ничего, в сущности, не скрывается, нет никакой души, нет того, кто бы носил их. Пусть изображаемое им общество было дурно и низко, пусть оно заслуживало осмеяния: но разве уже не из людей оно состояло? Разве для него уже исчезли великие моменты смерти и рождения, общие для всего живого чувства любви и ненависти?» Розанов писал о Гоголе: «Признавая его гений, мы с изумлением останавливаемся над ним, и когда спрашиваем себя: почему он так не похож на всех, что делает его особенным, то невольно начинаем думать, что это особенное — не избыток в нем человеческого существа, не полнота сил сверх нормальных границ нашей природы, но, напротив, глубокий и страшный изъян в этой природе, недостаток того, что у всех есть, чего никто не лишен. Он был до такой степени уединен в своей душе, что не мог коснуться ею никакой иной души: и вот отчего так почувствовал всю скульптурность наружных форм, движений, обликов, положений… Не идеала не мог он найти и выразить; он, великий художник форм, сгорел от бессильного желания вложить хоть в одну из них какую-нибудь живую душу. И когда не мог все-таки преодолеть неудержимой потребности, — чудовищные фантасмагории показались в его произведениях, противоестественная Улинька и какой-то грек Костанжогло, не похожие ни на сон, ни на действительность.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу