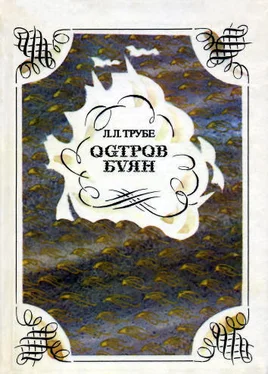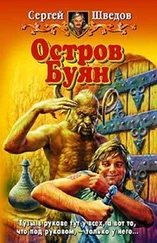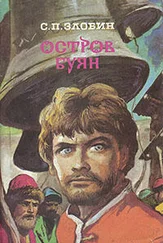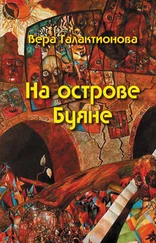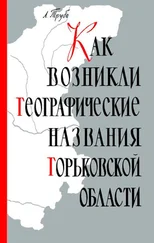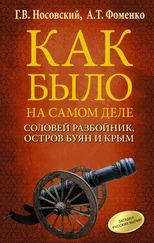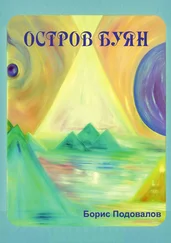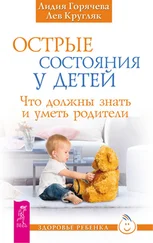Но все же однажды во время путешествия в Арзрум А. С. Пушкин государственную границу пересек.
Путешествие на Кавказ, в действующую армию, он предпринял в 1829 году, как говорится, на свой страх и риск после очередных осложнений в жизни: первое сватовство к Н. Н. Гончаровой оказалось неудачным, хотя прямого отказа поэт не получил. В автобиографическом наброске «Участь моя решена» поэт признавался: «…если мне откажут, думал я, поеду в чужие края». А кроме того: «Снова тучи надо мною…» («Предчувствие»).
За это путешествие по возвращении пришлось А. С. Пушкину оправдываться перед шефом жандармов Бенкендорфом, который спрашивал, «по чьему позволению он предпринял сие путешествие» 4 4. Жизнь Пушкина. М., 1987. Т. 1. С. 226. 5. Картина Грузии, или описание политического состояния царства Карталинского и Кахетинского, сделанное полковником и кавалером Бурнашевым в Тифлисе в 1786 г. Курск, 1793. С. 6. 6. Чихачев П. А. Письма о Турции. М., 1960. С. 27—28. 7. Кузнецов Н. «Вечерняя звезда» в одном стихотворении Пушкина («Редеет облаков летучая гряда»). — Мироведение. 1923. №1(44). С. 87. 8. Гончаров И. А. Очерки. Статьи. Письма. Воспоминания современников. М., 1986. С. 11.
.
В своем ответе Бенкендорфу 10 ноября 1829 года А. С. Пушкин указывает только на необходимость «повидаться с братом, который служит в Нижегородском драгунском полку», тогда как причина была не только эта. В предисловии автора к «Путешествию в Арзрум» при его издании в «Современнике» в 1836 году он пояснял: «Мне захотелось туда съездить для свидания… с некоторыми из моих приятелей» (в том числе и с друзьями-декабристами, с которыми и встретился).
А. С. Пушкин обладал тонкой наблюдательностью, и многие его путевые заметки могут считаться образцами географического описания. Например, он с замечательной точностью улавливает смену природных зон: «Переход от Европы к Азии делается час от часу чувствительнее: леса исчезают, холмы сглаживаются, трава густеет и являет бо́льшую силу растительности; показываются птицы, неведомые в наших лесах…»
«Дорога наша сделалась живописна. Горы тянулись над нами. На их вершинах ползли чуть видные стада и казались насекомыми… На скале видны развалины какого-то замка: они облеплены саклями мирных осетинцев, как будто гнездами ласточек».
«Чем далее углублялись мы в горы, тем у́же становилось ущелие. Стесненный Терек с ревом бросает свои мутные волны через утесы, преграждающие ему путь… Я отстал от конвоя, засмотревшись на огромные скалы, меж коими хлещет Терек с яростью неизъяснимой».
Здесь сразу видно, что пишет не просто географ, но и замечательный мастер слова, — столь высокохудожественно его описание, полное неожиданных сравнений.
«Дорога шла через обвал, обрушившийся в конце июня 1827 года. Таковые случаи бывают обыкновенно каждые семь лет. Огромная глыба, свалясь, засыпала ущелие на целую версту и запрудила Терек. Часовые, стоявшие ниже, слышали ужасный грохот и увидели, что река быстро мелела и в четверть часа совсем утихла и истощилась. Терек прорылся сквозь обвал не прежде, как через два часа. То-то был он ужасен!»
Это грозное явление в снежных горах поэт прекрасно запечатлел в стихотворении «Обвал», написанном в год путешествия:
Дробясь о мрачные скалы,
Шумят и пенятся валы,
И надо мной кричат орлы,
и ропщет бор,
И блещут средь волнистой мглы
Вершины гор.
Оттоль сорвался раз обвал,
И с тяжким грохотом упал,
И всю теснину между скал
Загородил,
И Терека могущий вал
Остановил.
Вдруг, истощась и присмирев,
О Терек, ты прервал свой рев;
Но задних волн упорный гнев
Прошиб снега…
Ты затопил, освирепев,
Свои брега.
И долго прорванный обвал
Неталой грудою лежал,
И Терек злой под ним бежал,
И пылью вод
И шумной пеной орошал
Ледяный свод.
И путь по нем широкий шел:
И конь скакал, и влекся вол,
И своего верблюда вел
Степной купец,
Где нынче мчится лишь Эол,
Небес жилец.
Кавказские впечатления, как и впечатления других путешествий А. С. Пушкина, нередко служили темами для создания поэтических произведений (их перечень дается в приложении).
Еще прекрасный пример этого.
Вот прозаическая запись виденного поэтом:
«Утром, проезжая мимо Казбека, увидел я чудное зрелище: белые, оборванные тучи перетягивались через вершину горы, и уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось, плавал в воздухе, несомый облаками».
Читать дальше