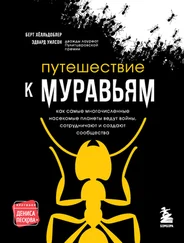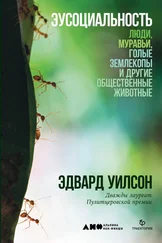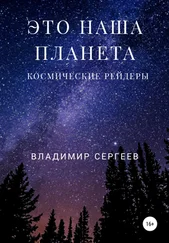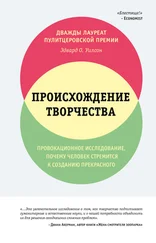В редких случаях анализ данных может помочь экологам выявить частичные корреляции, приоткрывающие завесу над причинами происходящих в окружающей среде изменений. Одна из них — вызванное глобальным потеплением увеличение численности короедов в хвойных лесах, приводящее к более частым лесным пожарам. Вторая — общее расширение границ фундаментальных экологических ниш, занимаемых различными видами, на фоне снижения разнообразия видов в рамках экосистем, как это, например, происходит в арктических экосистемах и экосистемах с умеренным северным климатом. Отдельные виды в среднем встречаются в большем количестве мест обитания. Они потребляют более разнообразную пищу. Еще одна общемировая тенденция заключается в увеличении разнообразия лишайников, хвойных и тли при движении к северу параллельно с уменьшением разнообразия орхидей, бабочек и рептилий. Впрочем, как правило, ключевые экологические факторы изменения биоразнообразия поддаются анализу только при изучении экосистем, которые очень малы и обладают относительно небольшим биоразнообразием.
Процесс познания в экологии, как и в любой другой научной дисциплине, состоит из нескольких этапов — от простого к сложному. Сначала вы открываете определенное явление или приходите к выводу, что оно существует, а затем начинаете размышлять над его причиной и следствиями, подбирая под имеющиеся данные какое-либо объяснение, которое кажется вам убедительным. Когда объяснение найдено, вы, руководствуясь здравым смыслом или следуя интуиции, переходите к поиску возможных способов исследования этого явления (формулируете гипотезы), желательно с возможностью нескольких альтернативных интерпретаций. При этом вы продолжаете искать новые данные и совершенствуете теоретическую часть. Иногда это помогает лучше понять изучаемое явление и закономерность, частью которой оно является, а иногда — нет. И даже если объяснить все явление целиком так и не удается, по крайней мере вы нащупываете возможности для новых исследований в будущем.
Таким образом, процесс научного познания редко носит прямолинейный характер. Настоящие прорывы, когда проблема решается в лоб, случаются очень нечасто. Напротив, этот процесс движется по траектории, напоминающей паутину, с резкими поворотами и внезапными переходами, приводящими к пересмотру базовых понятий и смене направления исследования. Постепенно предмет изучения обрастает новыми подробностями. Приходится ждать, пересматривать материалы, описывать детали явления более подробно, уделять больше внимания причинным связям. И вдруг все встает на свои места, и наступает момент прозрения.
Именно так совершается большинство научных открытий. Очевидно, что в экологии ситуация несколько иная. Данные, которые требуются для углубленного изучения структуры и функционирования экосистем, в большинстве случаев просто отсутствуют. Давайте в очередной раз обратимся к экологам с вопросом о том, как мы можем понять глубинные факторы, обеспечивающие экологическую устойчивость экосистемы леса или реки, если у нас до сих пор нет данных о большинстве видов насекомых, нематод и прочих небольших организмов, от которых зависит работа тонко настроенных механизмов обмена энергией и веществом. Если говорить о морских экосистемах, то как мы должны относиться к опубликованным впервые в 2013 г. данным об избытке в них вирусов-бактериофагов? И как мы можем быть уверены в том, что правильно понимаем принципы функционирования морских экосистем, когда сверхминиатюрные организмы Picozoa, которые, возможно, составляют основную часть поглощающей коллоидные образования «темной материи» океанов, была впервые описана с анатомической точки зрения и объявлена новым типом также только в 2013 г.?
Давайте взглянем на проблему недостаточной «научности» экологии несколько иначе. Каждая научная дисциплина должна пройти в своем развитии через стадию естественной истории, прежде чем в ее недрах сформируется нечто похожее на зрелую теорию. Как раз данные о видовом составе биоразнообразия и о биологии составляющих его видов и являются той научной естественной историей, которой так недостает большинству разделов экологии. По крайней мере две трети видов на Земле остаются неизвестными и не включенными ни в какие классификации, а из той трети, что известна, менее чем один вид из тысячи становился предметом подробного изучения в рамках биологии. Подобно физиологии и медицине, развитие (и преподавание) которых напрямую обусловлено наличием глубоких знаний об органах и тканях человеческого организма, наука об экосистемах вряд ли добьется серьезных успехов до тех пор, пока не будет располагать подробными сведениями о входящих в каждую экосистему видах живых организмов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
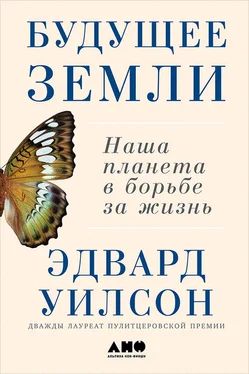
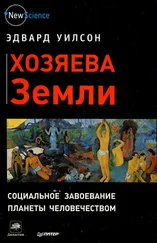
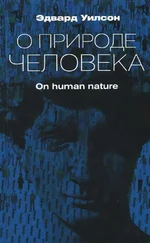
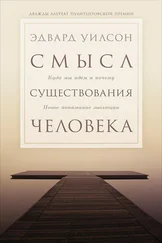
![Эдвард Уилсон - Эусоциальность [Люди, муравьи, голые землекопы и другие общественные животные] [litres]](/books/407117/edvard-uilson-eusocialnost-lyudi-muravi-golye-thumb.webp)