Кстати, какая-то анизотропия могла остаться. Разные модели предсказывали различные виды глобальной анизотропии — в виде квадрупольной гармоники или крупномасштабного пятна в распределении температуры реликтового излучения на небесной сфере. И наблюдатели бросились искать. Одним из пионеров этого направления был итальянский астроном Франческо Мельхиори, который посвятил большую часть своей научной жизни поиску квадрупольной анизотропии реликтового излучения. Тогда эта «охота» не увенчалась успехом — слишком мала была амплитуда. Но к поиску анизотропии уже подключились многие исследователи как в России (Юрий Парийский, Николай Кардашёв, Игорь Струков, Дмитрий Скулачёв и др.), так и в Америке и Европе (Джордж Смут, Дэвид Вилкинсон, Паоло Бернардис и др.). Я помню, как в начале 1970-х в группу Зельдовича приезжал Джордж Смут, спрашивал, как и что измерять и какие ожидаются амплитуды сигнала. Речь тогда шла об амплитудах ~10 -4, однако много позже анизотропия была открыта на уровне 10 -5в полном соответствии с предсказаниями Космологической стандартной модели. Следует, однако, заметить, что глобальную анизотропию мира, которую искал Мельхиори, так и не нашли до сих пор и продолжают ее искать — время от времени появляются «сенсации», связанные с обнаружением выделенных осей и плоскостей мира, но окончательный вердикт можно будет вынести только с увеличением точности измерений.
Б. Ш.:Вернемся назад. Я еще спрашивал по поводу «плоскостности», или близости плотности к критической, что то же самое. Что думали по поводу такого точного баланса?
В. Л.:Прямые оценки плотности Вселенной по звездам и газу давали всего несколько процентов от критической плотности. Уже была обнаружена темная материя (по разбросу скоростей и кривым вращения галактик), но ее вклад сильно недооценивался. Самая известная оценка того времени принадлежала Джиму Пиблсу и Брэнду Тали: плотность Вселенной не более 10% от критической. То есть не хватало порядка. Это работало в пользу «открытой» модели, хотя и от «плоской» никто не отказывался.
Б. Ш.:Подожди, что с этого одного порядка? Эта разница на порядок, если пойти в раннюю Вселенную, выражается в какой то момент как отклонение от критической типа 10 -50, что странно. Если бы отклонение изначально было чуть больше, сейчас оно бы выражалось десятками порядков величины, а не процентами. Правда, тогда бы и нас не было…
В. Л.:Да, конечно, мы это знали. Первым, наверное, был американский астрофизик Роберт Дикке, который четко сформулировал: Ω (отношение плотности Вселенной к критической плотности) — переменная во времени величина. Она быстро деградирует либо к нулю, либо к бесконечности. За исключением одного-единственного случая: если Ω = 1 в точности. Поэтому и тогда были подозрения, что плотность равна критической, т.е. Вселенная «плоская». Мы, кстати, работали с плоской моделью. Однако дискуссии о компонентах материи не утихали. Аргумент Дикке был эвристический, а измерение плотности — это реальная наука.
Б. Ш.:Небось, тогда пытались привлекать антропный принцип для объяснения этого парадокса?
В. Л.:В нашей группе считалось, что антропный принцип — это от бедности. Ситуация типична для случая реализованной (апостериорной) вероятности. Вселенная-то уже есть, но как она появилась, что тогда произошло? Всегда есть соблазн решить задачу одним махом: взгляните в окно, вы же видите, как сложно и разумно всё устроено, неужели не ясно, что всё это создано провидением, а дальше подставляйте — Бог, антропный принцип, избранный наблюдатель и т.д. Нет, в группе Зельдовича доверяли только эмпирике. Понимали так, что надо развивать эксперимент и методы обработки, будут новые данные, тогда и с моделью продвинемся. Именно в то время появился термин «наблюдательная космология» — «астрофизика» как исследование звезд уже была тесна.
Б. Ш.:Чтобы подтвердить «плоский» вариант, надо было искать недостающую материю. Где?
В. Л.:О компонентах материи и темпах космологического расширения шли горячие дискуссии. Согласно уравнениям Фридмана, скорость расширения регулируется средней плотностью материи и ее давлением. Если давление мало (а тогда казалось очевидным, что оно близко к нулю), то фридмановская Вселенная должна расширяться с замедлением.
Это можно было проверить по диаграмме Хаббла — зависимости красного смещения объектов стандартной светимости от их видимой яркости. В середине 1970-х Джеймс Ганн и Беатрис Тинсли опубликовали свою версию диаграммы Хаббла. Они ее строили по центральным галактикам больших скоплений — тогда считалось, что яркость у таких галактик более-менее одинакова. Так вот, их данные лучше всего описывались отрицательным параметром замедления, т.е. ускорением, ускоряющимся космологическим расширением (сейчас-то мы знаем, что именно так оно и есть). Но тогда народ был еще не готов всерьез воспринять ускоренное расширение, всё свалили на ошибки измерений и про этот результат потихоньку забыли.
Читать дальше
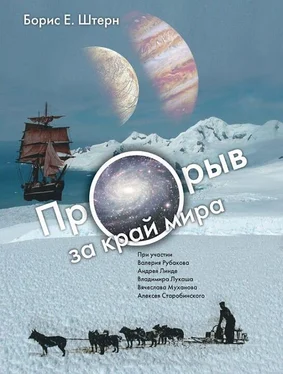

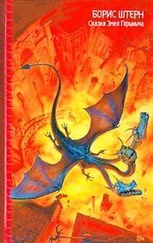
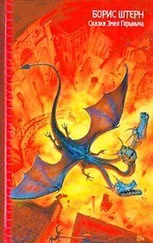
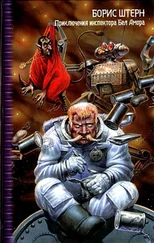
Вот если для примера рассмотреть вращение Луны вокруг Земли. Луна, располагаясь на своей орбите, находится в состоянии равновесия, и при этом ее постоянном движении не совершается работа (работа - это затраченная мощность на протяжении некоторого времени, мощность в свою очередь - это скорость передачи энергии). Наоборот, чтобы сместить Луну с ее орбиты необходимо совершить работу (т.е. затратить мощность). Так и Вселенная, расширяясь, вероятнее всего, находится в состоянии равновесия, которое точно так же, как и равновесие системы Земля-Луна, обеспечивается самой гравитацией. Расширение Вселенной - это ее равновесие, а не затрата мощности при передачи гипотетической темной энергии. И искать темную энергию, которая бы была причиной расширения, - то же самое, что искать скрытый двигатель у Луны, который толкает ее вокруг Земли.