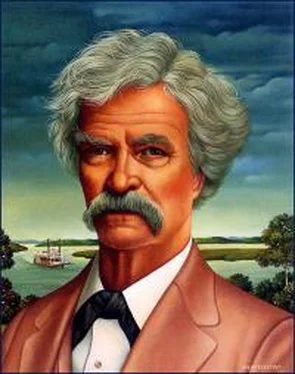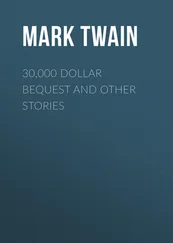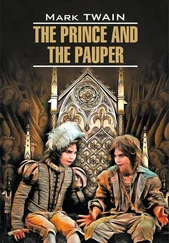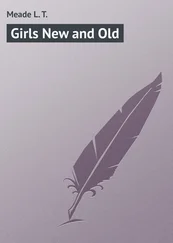Прибавлю в заключение, что мое участие в чествовании нашего гостя отнюдь не становится менее сердечным от того, что я наговорил столько вздора, и я уверен, что могу сказать то же самое об остальных ораторах.
Проходя мимо одного из гигантских американских чайных складов в Нью-Йорке, я увидел китайца, сидевшего перед ним в качестве вывески. Всякий проходящий упорно глядел на него до тех пор, пока только мог поворачивать голову, не рискуя свихнуть шею, а кучка людей остановилась и рассматривала его во всех подробностях.
Не позорно ли для нас, так много болтающих о цивилизации и человечности, ставить нашего ближнего в такое унизительное положение? Не пора ли подумать, в каком свете являемся мы сами, делая этого ближнего предметом легкомысленного любопытства, вместо сожаления и серьезного размышления? Передо мной было бедное создание, которое злая судьба изгнала из его природного заморского отечества, и страдания которого должны бы были тронуть ленивых зевак, столпившихся вокруг него; но так ли было на самом деле? Очевидно нет. Люди, называющие себя высшей расой, культурным и благородным народом, глазели на его странную китайскую шапку с остроконечной верхушкой, украшенной шариком, на его длинную косу, болтавшуюся вдоль спины, на коротенькую шелковую блузу с причудливыми кисточками и узорами (и, так же, как остальной его наряд, поношенную, изорванную и сидевшую крайне неуклюже), на синие шаровары, плотно стянутые у лодыжек, и на неуклюжие башмаки с тупыми носками и толстыми пробковыми подошвами. Осмотрев его с ног до головы, они отпускали какую-нибудь непристойную шутку над его иностранным нарядом или его печальным лицом и проходили мимо. Я душевно пожалел об одиноком китайце. Я спрашивал себя, какие мысли роятся за этим печальным лицом, и какие отдаленные сцены грезятся его блуждающим глазам. Не видит ли он себя в мыслях с близкими сердцу за десять тысяч миль отсюда, по ту сторону волнующихся пустынь Тихого океана, среди рисовых полей и перистых пальм Китая, в тени родных гор или в чаще цветущих кустарников и странных деревьев, неизвестных в нашем климате? Не слышатся ли ему время от времени, среди видений и грез, знакомый смех и полузабытые голоса, и не встают ли перед ним на мгновение дружеские лица минувших времен? Жестокая судьба, подумал я, постигла этого смуглого странника. В надежде, что кучка зевак будет тронута по крайней мере словами бедняги, если уж его жалкая одежда и мысль о его грустном изгнании не действуют на них, я дотронулся до его плеча и сказал:
— Полноте, не унывайте. Не Америка обращается с вами таким образом, а только один гражданин, в сердце которого жажда прибыли вытравила человечность. Америка оказывает широкое гостеприимство всем изгнанникам и угнетенным. Америка и американцы всегда готовы помочь несчастному. Деньги будут собраны — вы вернетесь в Китай — вы снова увидите ваших друзей. Сколько вы получаете?
— Четыре доллара в неделю на своих харчах и ни цента больше, черт бы их драл; правда, им приходилось тратиться на этот шутовской наряд, а он стоит недешево.
Этот изгнанник остается до сих пор на своем посту. Как видно, американские чаеторговцы, которым требуются живописные вывески, не могут обойтись без китайцев.
— Вот, это мертвое тело, — сказал гробовщик, одобрительно похлопывая по сложенным рукам покойника, — был душа человек, во всех смыслах душа человек. Такой был покладистый, и скромник, и простецкий малый в свои последние минуты. Друзья требовали металлический гроб — вынь да положь. Я не брался доставить. Времени не было — всякий может понять.
Мертвое тело сказал, что ему это все единственно — пусть его засунут в какой угодно ящик, лишь бы он мог протянуться с удобством, а до фасона ему дела нет. Ему, говорит, не фасон важен, а простор в его последнем приюте.
Друзья требовали серебряную дверную доску на гроб, и чтобы обозначить на ней, кто он такой и откуда родом. Сами посудите, раздобудешь ли этакую пышную штуку в захолустном городишке? Что же сказал мертвое тело?
Мертвое тело сказал, чтобы выбелили его старый челнок, и намазали бы на нем ваксяной щеткой по трафарету его имя и общественное положение, да какой-нибудь священный стишок повеселее или что-нибудь этакое, и взвалили бы на могилу, и пусть он там трепыхается. И ни чуточки не огорчился — напротив, был спокоен и равнодушен, словно погребальная кляча; по его-де соображениям, говорит, в том месте, куда он отправляется, человеку много полезнее пустить пыль в глаза своей живописной добродетелью, а не миловидным гробом да нарядной дверной доской.
Читать дальше