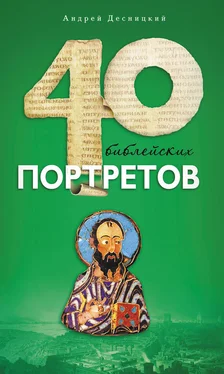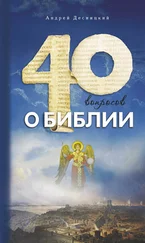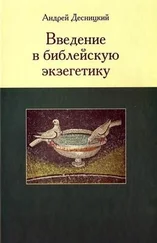Это вообще основной принцип пророческой проповеди: что бы ни происходило с тобой и твоим народом, все это происходит между тобой и Богом. Именно поэтому даже те пророки, которые долго и подробно говорят о разрушении, находят и слова надежды, обещают возрождение и процветание. Иоиль говорит о них как уже о чем-то состоявшемся. Полчища действительно ушли? Или это его яркая вера в то, что однажды так оно обязательно и произойдет, и потому он говорит о желанном как о состоявшемся? «Возревновал Господь о Своей земле, пожалел Свой народ… Не бойся, земля, ликуй и веселись: великое совершил Господь! Не бойтесь, звери полевые: зеленеют пастбища в степи, приносят плоды деревья – смоковница и виноград дают свою силу. Ликуйте и радуйтесь, сыны Сиона, о Господе, вашем Боге, – Он дарует вам Учителя Праведности, ниспошлет на вас дожди, и осенние, и весенние, как прежде. Переполнятся тогда гумна зерном, потекут в давильнях через край сок лозы и масло оливы».
Как в пророчествах Исайи и у многих других пророков, здесь звучат намеки на некоего совершенно особенного человека, которого Бог пошлет к Своему народу, чтобы вернуть его Себе. И потому Иоиль предсказывает не просто примирение Бога со своим народом, но, по сути, дарование пророческого призвания каждому человеку из этого народа: «И будет после того: изолью Мой Дух на всякую плоть, будут пророчествовать ваши сыны и дочери, ваши старцы увидят вещие сны, ваши юноши – видения». И в самом деле, зачем нужны пророки? Чтобы показать людям то, чего они сами по каким-то причинам не замечают. А когда они прозреют – пророком станет, по сути, каждый, это и есть нормальное состояние для верующего человека. Только мы этой нормальности еще не достигли.
Аввакум, дозорный на башне
О жизни пророка Аввакума мы тоже не знаем практически ничего, – его книга не сообщает нам никаких биографических деталей и не содержит никаких отсылок к конкретным историческим эпизодам. Есть нечто удивительное, но вместе с тем и значимое в том, что пророчества-предупреждения датируются куда легче, чем пророчества, говорящие о наступившем бедствии. Казалось бы, должно быть наоборот: предостережения всегда актуальны, а вот всякое новое вражеское нашествие неповторимо. Почему же те, кто сохранил книги этих пророков и донес их до наших дней, не указали, что же произошло?
Может быть, дело в том, что для пророческого слова, в отличие от исторической летописи, важно не передать конкретику событий, а указать на их духовный смысл? И если бы пророки точно указывали, куда именно двинулись войска врагов и под чьим предводительством, какие города захватили, какие потери при этом понесли их соплеменники, – все это оттеснило бы на задний план главное, ради чего и писались их книги. И потому, оставляя летописцам детали, пророки говорят о сути.
Впрочем, одну деталь из книги Аввакума мы знаем точно: он описывает нашествие халдеев, то есть вавилонян. Господь через него объявляет: «Вот, я поднимаю халдеев – народ суровый и упорный, который пройдет по всей земле, отнимая чужие дома. Страшен он, ужасен, сам себе он – и власть, и суд. Быстрее барсов его кони, проворней ночной волчьей стаи; скачут всадники, издалека налетают, как орел, настигают свою добычу». Собственно, в этом и есть основное различие между Израилем и язычниками: есть ли над ними Царь и Судия, или кто силен, тот и господин.
А кто же тогда пророк? Аввакум называет себя дозорным, который стоит на башне и напряженно вглядывается вдаль… Что это за облако пыли, что за дымы там, вдали? Не вражеское ли нашествие? Он должен первым все заметить и предупредить свой народ… Он должен подняться над повседневной суетой, чтобы разглядеть вдали то, чего не хотят или не могут увидеть другие. И самое главное – он должен уловить сигнал от Того, Кто только и решает судьбу этого народа.
«Я заступил на стражу, стою на башне, смотрю, что будет. Что Он скажет мне? Как на мою жалобу ответит? Ответил мне Господь и сказал: “Запиши свое видение, ясно изложи на табличках, чтобы мог их гонец доставить. Это видение – для своего часа, сбудется до конца, без ошибки. Если медлит оно, подожди – сбудется, не запоздает”».
Но у пророка есть одно очень важное отличие от дозорного: дозорный не жалуется на то, что видит. Он просто наблюдает и сообщает остальным, что увидел. Пророк же вступает с Богом в диалог, даже в спор – позднее мы услышим такой спор в книге Иеремии. Но у Аввакума он тоже есть: «Доколе, Господи, я буду взывать, а Ты – не слышать? Я кричу о насилии, а Ты не спасаешь. Для чего же мне видеть зло, смотреть на несчастье? Предо мной – грабеж, насилие, растут раздор и вражда».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу