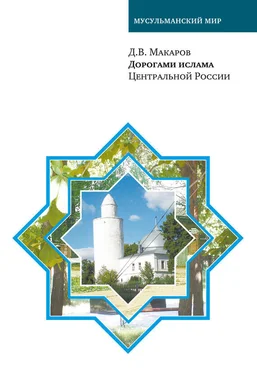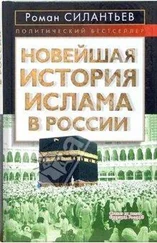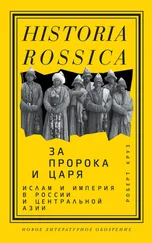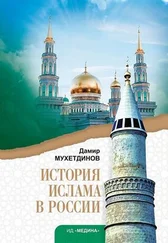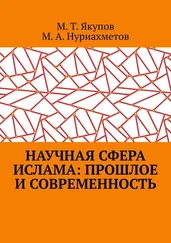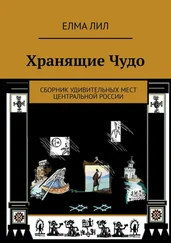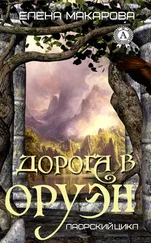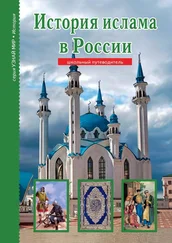Спорным остается и вопрос о человеческих потерях в Куликовской битве. Например, С. З. Заремба доводит потери русских до 40 тысяч человек, воинов Мамая – до 60 тысяч, А. Н. Куропаткин – 100 тысяч и 150 тысяч, В. В. Каргалов – 75 тысяч и 100 тысяч соответственно. Разумеется, потери исчислялись не сотнями и не десятками тысяч, а гораздо меньше. Местоположение захоронения павших воинов до сих пор не найдено. Есть вероятность, что братская могила находится под жилыми домами с. Монастырщина. Последние обстоятельства, а также предположение, что место боя определено неверно, позволяют некоторым авторам переместить его в другие регионы (например, в Москву) или усомниться в реальности произошедших событий.
Этнический состав соперников также является поводом для научных дискуссий. Однозначно можно заявить, что ордынский контингент нельзя называть чисто татарским. Ядро войска Мамая составляли потомки половецких родов, жители Кипчакской степи, причем исключительно ее западной части. В Мамаеву рать, вероятно, входили представители кавказских народов и, возможно, генуэзцы (хотя исследователи либо отрицают наличие итальянской пехоты, либо склонны видеть в ней венецианских наемников, т. к. отношения Мамая с Генуей в то время были враждебными). Русское воинство также не было мононациональным. В его рядах могли быть и литовские воины, и отряды ордынских военачальников, в т. ч. хана Тохтамыша. Последний, вероятно, не попал в летописи ввиду их тенденциозности. В ходе археологических раскопок в Московском Кремле 2007–2008 гг. были найдены документы, свидетельствующие о наличии мусульман-татар среди военной аристократии Московского великого княжества 1380-х гг.
Изучение истории сражения начал российский историк Н. М. Карамзин на основе анализа письменных источников. Полевые исследования по локализации места сражения проводились в конце 1810-х гг. директором училищ Тульской губернии С. Д. Нечаевым (впоследствии – обер-прокурор Святейшего синода, сенатор). Владея имением на Куликовом поле, он предпринимал натурные исследования места сражения, пытался увязать ход битвы с реальной местностью, скупал у крестьян старинные реликвии, найденные на поле битвы. В XIX – начале XX в. собранная им коллекция размещалась в усадьбе с. Полибино (ныне в Липецкой области), но в годы Гражданской войны была утеряна. Интерес к Куликовской битве проявляли известные историки Н. А. Полевой, С. М. Соловьев, Н. И. Костомаров, В. О. Ключевский, С. К. Шамбинаго, А. А. Шахматов, Л. В. Черепнин, А. Н. Кирпичников и др. В настоящее время этой темой вплотную занимаются сотрудники государственного музея-заповедника «Куликово поле», специалисты из Государственного исторического музея и РАН.
Другим важным военным событием постордынской эпохи является Белёвская битва («Белёвщина») – сражение отрядов изгнанного сарайского хана Улуг-Мухаммеда и Московского великого княжества под г. Белёвом (ныне Тульской области), произошедшее 5 декабря 1437 г.
После изгнания Улуг-Мухаммеда из Сарая в 1437 г. хан оказался на территории Верховских княжеств, находившихся в зависимости от Великого княжества Литовского, и обосновался в Белёве – центре одного из них. Вероятно, это было сделано по согласованию с местными князьями. Возможно, в намерение Улуг-Мухаммеда входил сбор сил для дальнейшей борьбы за сарайский престол. Как представляется, изгнанный Чингисид рассчитывал на союзничество великого князя московского Василия II, который получил ярлык на правление в Москве в 1432 г. именно от него. Но Василий II, решив показать преданность новому правительству Кичи-Мухаммеда, отказал Улуг-Мухаммеду в поддержке и направил в Белёв крупное войско во главе с Дмитрием Шемякой и Дмитрием Красным. Московское войско (40 тысяч воинов) намного превосходило татарское (порядка 3 тысяч) по численности.
По словам «Казанского летописца», татары «болши надеяся на Бога, и на правду свою и храбрость, и на злое умение свое ратное». Утром 3 декабря многочисленные полки московитов подошли к городу. Первое столкновение было для них успешным: «…побиша татар много, зятя царева убиша, и князей много и татар, и в город вгониша их». Воеводам Петру Кузьминскому и Семену Волынцу удалось даже ворваться в город и пробиться к его центру, однако дальше произошло нечто непонятное. Их атака не была поддержана. Увлекшиеся преследованием противника, князья и их воины были окружены и перебиты. Из-за несогласованности действий победа была упущена. На следующее утро, 5 декабря, Улуг-Мухаммед послал на переговоры своего зятя Ельбердея (Елибердея) и даруг – князей Усеина Сараева и Усень-Хозю. Затеянные переговоры имели целью оттянуть время и усыпить бдительность войск противника. К татарам для переговоров приехали В. И. Собакин и А. Ф. Гостяев. Татары предложили дать великому князю в заложники старшего ханского сына Махмуда (Мамутека) и детей от всех татарских князей в обмен на мир. Хан обещал не нападать на русские земли и не посылать своих людей ни за «выходом» (дань), «ни по иное по что». Ермолинская летопись добавляет, что татары предлагали отдать русским также всю добычу и пленных, захваченных за пределами вотчины великого князя. Однако переговорщики на это предложение не согласились. После этого из города выдвинулись татарские отряды и начался бой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу