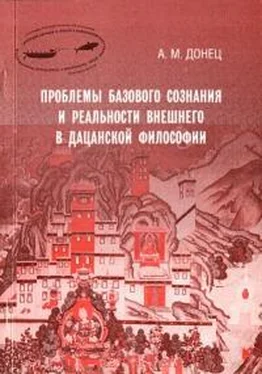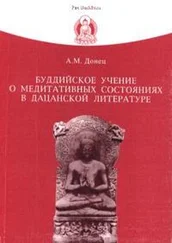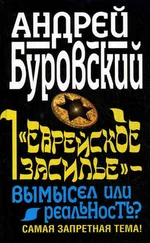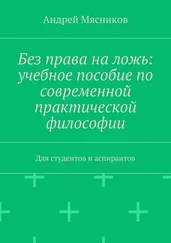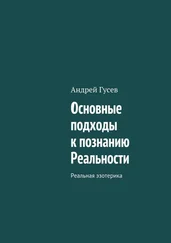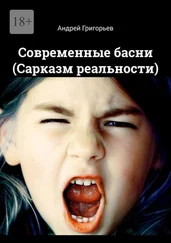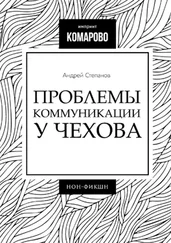Кроме того, отмечает Цзонхава, нельзя сказать, что в тех ситуациях нет объекта сознания–познания. Например, хотя во время смотрения в зеркало и нет восприятия отражения лица как действительного лица, но имеется восприятие явления отражения в качестве лица. Объектом здесь будет не лицо, а явление в качестве лица. Аналогичным образом и в тех ситуациях тоже будут объекты–явления в качестве волосков, скелетов и реки с гноем. Поэтому нельзя утверждать, что сознание–познание может иметь место без его объекта [Цзонхава, 1, л. 141 А]. Если же внешняя данность отсутствует как таковая и термином «внешняя данность» называют лишь форму, в которой является само сознание, то волоски, скелеты и прочее не должны иметь принципиального отличия от стола, стула и других настоящих вещей. Поэтому, констатирует Чандра- кирти, подобные скелеты должны восприниматься и другими людьми — так же, как это происходит, например, когда зрители смотрят театральное представление и видят одних и тех же актеров [Чандракирти, с. 164]. Но эти скелеты не воспринимаются другими. Поэтому их существование должно отличаться от имеющегося у скелетов на кладбище. И отличие это, как будет показано далее, не может быть сведено только к отличию кармы, вызывающей их появление. Оно также определяется наличием или отсутствием подобных вещей в качестве внешней данности.
Ошибочность отождествления материального и внешнего
В связи с изложенным следует сделать несколько замечаний. Дело в том, что у прасангиков, особенно у тибетских, обнаруживается явная тенденция отождествлять понятия материального и внешней данности. Так, Цзонхава, указывая на те трудности, с которыми столкнулись виджнянавадины при создании своей концепции отсутствия внешней данности, говорит: «Если отрицается внешняя данность, то приходим и к отсутствию материального и т. д. А если материальное и т. д. полагаются, то должно полагаться и внешнее» [Цзонхава, 1, л. 138Б].
Но виджнянавадины отрицают не материальное как таковое, а только его признание чем–то внешним по отношению к сознанию. Они не полагают, что воспринимаемое — материальное и воспринимающее — сознание являются полностью тождественными [Джанжа, 3, л. 42А]. Отношение между двумя этими дхармами характеризуется ими как неявляемость отличным субстанционально [Там же, л. 64Б]. Поэтому нельзя утверждать, что они признают существование сознания–познания при отсутствии его объекта или полагают материальное тождественным сознанию по «роду обратно тождественного себе или смыслу», то есть полностью тождественным сознанию или обладающим признаками сознания (ясностью–прояснением и веданием).
Кроме того, отрицающие внешнюю данность подразделяются на признающих вид являющегося истинным (mam bden ра) и считающих его ложным (mam rdzun ра). Первые полагают, что вид, в котором объект является чувственному познанию, совпадает с тем видом, в котором объект пребывает, а вторые отрицают это. Пра- сангиковская же критика направлена в основном против вторых. Да и то при этом подразумевается, что они признают только явление, а не сам объект. Но они признают существование объекта, полагая его не соответствующим по виду явлению и не являющимся субстанционально отличным от сознания [Жамьян Шадба–второй, 1, с. 137–139; Джанжа, 2, л. 28А-29А; Джанжа, 3, л. 41Б^44Б]. Поэтому можно выдвинуть предположение, что прасангиковская критика идеи отсутствия внешней данности исходит из общих принципов этой системы и направлена в основном против недостаточно четкого определения в философских категориях отношения между воспринимаемым и воспринимающим сторонниками этой идеи.
Шесть основных видов ситуаций зрительного восприятия
В связи с рассмотрением проблемы существования внешнего тибетские прасангики проводят сравнительный анализ шести ситуаций зрительного восприятия материального (см., напр., в: [Цзонхава, 1, л. 152А и далее; Хайдуб Чже, л. 209А и далее; Жамьян Шадба, 1, л. 320А и далее]):
1) обычное восприятие вещей — дома, столба, кувшина и проч.;
2) восприятие в сновидении слона, коня и др.;
3) восприятие в зеркале отражения лица и других предметов, а также восприятия являющегося в мираже и т. п.;
4) восприятие волосков, мушек и аналогичных феноменов человеком из–за дефекта зрения;
5) восприятие скелетов и других предметов, визуализируемых йогом;
6) восприятия претом реки с гноем на месте реки с водой.
Общим для всех этих ситуаций, по мнению прасангиков, является то, что «воспринимаемое и воспринимающее одинаково существуют в относительном плане и одинаково не существуют с точки зрения исследования абсолютного» [Жамьян Шадба, 2, л. 202А]. Однако познание и познаваемое в них имеют и существенные отличия. В первом случае объект относится к категории аятаны цветоформы, а его восприятие — к чувственному познанию. При этом объект не является ложным с точки зрения относительной истины, а его восприятие должно быть признано «верным познанием», так как может быть установлено соответствие между явлением объекта и «основой явления». Увиденное в сновидении следует считать цветоформой, относящейся к категории аятаны дхармы, а его восприятие — умственным познанием, так как в состоянии сна не действуют «органы чувств» и восприятие не является чувственным познанием. Объект здесь будет ложным, поскольку он является как внешняя данность, но не имеет места в качестве нее 10°. Поэтому его восприятие не может быть признано «верным познанием». При этом не рассматриваются случаи, когда из–за кармы, благословения божества или некоторых других факторов во сне видят прошлые, теперешние или будущие события, которые действительно имели, имеют или будут иметь место. Джанжа отмечает, что, по мнению виджнянавадинов, восприятие в этих случаях является непосредственным непрямым «верным познанием», осуществляющимся благодаря явлению сознанию точной копии объекта [Джанжа, 3, л. 68А и далее].
Читать дальше