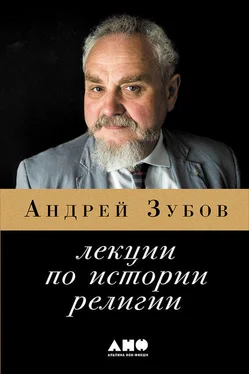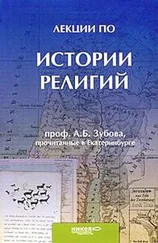Итак, для китайской традиции характерны вера в бессмертие, глубокая убежденность в том, что бессмертие может быть телесным, в буквальном смысле минующим смерть – без воскресения; вера в то, что этот мир – не иллюзия, а бесценная реальность, Божественное творение. И притом очень малоуважительное отношение к человеку (всего лишь «кончик волоска на лошадиной шкуре мира») – хоть он и имеет особую свободную волю, но не есть мерило всех вещей, чем является человек для Запада.
Мы видим три цивилизации – три религиозных видения, которые к моменту пришествия Спасителя вполне проявили свою разность. Одно говорило о телесном воскресении, о том, что мир создан для человека; в древнем египетском тексте, поучении царю, которое было написано в эпоху первого переходного периода, то есть в эпоху революционной смуты конца III тысячелетия до Р. Х., прямо сказано об этом. Отец-царь учит своего сына: «Заботься о людях – пастве Бога. Для них создал Он небо и землю, для них поразил Он животное, обитающее в водах, для них создал Он царя» – все создано для людей, для них существует царь, а не люди – для царя.
С другой стороны – Южная Азия, где этот мир отбрасывается как ненужный и в человеке вычленяется только его богоподобие, зато дается надежда на полное слияние с Богом.
И третий вариант – китайский; в нем глубже, чем где бы то ни было, переживается благо творения самого по себе, не зависящее от человека. Не для человека создан мир, он сам по себе создан и прекрасен сам по себе – только ты его, человече, не порть, а войди с ним в ритм, в один строй, и тогда спасешься. А мир и без тебя существует прекрасно, ты ему только мешаешь своим своеволием.
Эти три видения создают как бы стереосистему, в которой раздается проповедь Христа. Что потом произошло, как она, с одной стороны, объединила эти упования, а с другой – продолжает вызывать смущение и сомнение у очень многих людей по всему миру, мы будем говорить с вами завтра.
Мы закончили предыдущую лекцию рассказом о трех типах религиозной культуры, о трех решениях главного вопроса, стоявшего перед человечеством, – вопроса вечности, победы над смертью, над отчужденностью и разделенностью. Напомню, что для Дальнего Востока было характерно восприятие всего мироздания, космоса как отпечатка Божественного творения, отпечатка Бога в земном. Все является Божественным, и человек должен войти в Божественный мир, в его строй и ритм, стать его гармоничной частью. Особое место и значение человека не подчеркиваются, хотя он и может достичь бессмертия, целостности и единства через гармонизацию с миром, сотворенным Богом.
Южная Азия, напротив, отбрасывала этот мир как иллюзию, как некую искусственную модель, созданную Богом с одной целью – чтобы дух человеческий мог вернуться к своему Создателю. И тело человека, и внешний мир рассматривались как некая ракета-носитель, которая должна вывести ракету на орбиту, а потом быть отброшена и сгореть за ненадобностью. В отличие от Дальнего Востока, Южная Азия открыла человечеству великую истину полного слияния Человека и Бога: не просто восстановление единства, но слияние Бога и человека таким образом, чтобы человеческий дух, как капля, растворился в океане Божественного бытия, теряя при этом свою личность. После смерти, как вы помните из упанишадического диалога Яджнавалкьи и Майтреи, нет сознания.
И, наконец, часть человечества, живущая на Западе, рассматривала этот мир как ценность, а человека, видя, что он свободно выбирает между добром и злом, – как хозяина, царя этого мира. Западная религиозная культура учила, что человек должен воскреснуть, победить смерть, и искала посредников между ним и Богом в этом великом акте победы над смертью и возвращении к Богу; в качестве посредника чаще всего выступал божественный правитель, царь.
Вот три позиции, в которых зафиксировалось человечество. При этом ни одна из частей мира не несла в себе полноты, все жили ожиданием. И в этом мире, полном ожидания истины, странным образом появляется один народ, являющий особую, уникальную миссию, которую до конца не может понять ни он сам, ни тем более народы, его окружающие. Речь идет о народе еврейском. Как он возник? Само слово «еврей» восходит к слову «хапиру», что означает «перешедший поток, реку». Так называли в Месопотамии беглецов – тех, кто решил уйти из оседлого, стабильного мира месопотамской цивилизации между Тигром и Евфратом прочь, за реку Евфрат, в западную пустыню. Одни уходили, спасаясь от царского гнева, другие – от неволи, третьи – становясь разбойниками.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу